Владимир соловьев и достоевский. Русские философы о смысле и назначении человеческой жизни (В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и др.)
Вс. С. Соловьев
Воспоминания о Ф. М. Достоевском
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Том второй Серия литературных мемуаров Под общей редакцией В. В. Григоренко, Н. К. Гудзия, С. А. Макашина, С. И. Машинского, Б. С. Рюрикова М., "Художественная литература", 1964 Сокращения восстановлены по журналу "Исторический вестник" Всеволод Сергеевич Соловьев (1849-1903) -- писатель, сын известного историка С. М. Соловьева и старший брат философа и поэта Вл. Соловьева. Окончил в 1870 году юридический факультет Московского университета. С 1864 года Вс. Соловьев помещал свои стихи в различных московских изданиях ("Пчела", "Московские ведомости", "Русский вестник"), а затем, переехав в Петербург, печатался в "Заре" и "Вестнике Европы". Познакомившись с Ф. М. Достоевским, Вс. Соловьев напечатал несколько стихотворений в "Гражданине" (см. No 46 и 51 за 1873 г.). Во второй половине 70-х годов вел критический отдел в "С.-Петербургских ведомостях", а затем в "Русском мире". С 1876 года он становится главным образом романистом, автором многочисленных, популярных в свое время исторических романов и повестей ("Княжна Острожская", "Наваждение", "Сергей Горбатов", "Цветы бездны" и др.). Вс. Соловьев познакомился с Достоевским в начале января 1873 года. 31 января в письме к С. А. Ивановой Достоевский писал о Соловьеве: "Я с ним недавно познакомился, и при таких особенных обстоятельствах, что не мог не полюбить его сразу. <...> Если б Всев. Соловьев был из обыкновенных моих знакомых, я бы к Вам не прислал его лично. Он довольно теплая душа" (Письма, III, 48-49). Вскоре после знакомства Достоевский ввел Вс. Соловьева в литературный круг кн. Мещерского. Очевидно, с самого начала знакомства Вс. Соловьев олицетворял для Достоевского ту часть русской молодежи, которая, как ему казалось, в своих нравственных и философских исканиях ближе всего подходила к его, Достоевского, восприятию жизни. Вот почему Достоевский с большим интересом отнесся к своему новому молодому другу. В 1876-1878 годах Достоевский реже встречается с Соловьевым, они иногда переписываются, а в 1878-1880 годах и встречи и переписка прекращаются. Вс. Соловьев был одним из самых восторженных поклонников Достоевского и еще при жизни писателя поместил о нем ряд критических очерков в "С.-Петербургских ведомостях" (No 32, 58 за 1875 г.) и "Русском мире" (No 38, 65, 98, 189, 196 за 1876 г.). В 1878 году в "Ниве" Вс. Соловьев напечатал биографическую заметку о. Достоевском, в которой высказал мнение о невозможности современникам оценить всю глубину таланта писателя. После смерти Достоевского он поместил в "Ниве" (No 7 от 14 февраля 1881 г.) некролог "Памяти Федора Михайловича Достоевского". Человек только что опущен в могилу. Смерть застигла его почти внезапно, застигла в периоде полного развития умственных и нравственных сил, среди кипучей и плодотворной деятельности. Он не ждал ее, не догадывался об ее приближении, или, вернее, он всю жизнь ждал этой смерти и привык к этому ожиданию. Он угас, не договорив своего слова, но он говорил и долго и много, и дело его жизни нельзя назвать начатым и неоконченным: он сделал свое дело, оставил по себе яркий, осязательный след, который не может стереться и забыться. Человека только что опустили в могилу -- и нежданная смерть его у всех на устах, память о нем так свежа, всем хочется говорить о нем, о значении только что понесенной утраты. Но как же можно говорить теперь о нем -- в эти первые, печальные дни? Теперь больше чем когда либо он, уже навеки отсутствующий, должен сам говорить о себе своими многочисленными творениями -- ведь он весь заключается в них, в этих горячих творениях, которые долго, слишком, долго были плохо понимаемы, плохо ценимы. Но последние годы его трудовой, тяжелой жизни озарились таки счастьем, на которое он уже переставал рассчитывать: его слово, наконец, достигло до сердца тех, к кому оно обращалось. Он договаривал это слово, окруженный всеобщим сочувствием, признательностью, восторгом. Он уж ничего больше не прибавит к тому, что им было сказано, и вспоминать о нем -- значит вспоминать каждое его слово, вдумываться в него, уразумевать каждую мысль его, значение каждого поэтического образа им созданного. Но такие воспоминания о художнике мыслителе могут быть плодом только верной, беспристрастной критической оценки его творений. Скоро ли дождется такой оценки память Достоевского -- это сказать трудно при крайне печальном состоянии нашей критики. И во всяком случае не теперь, не в эти печальные первые дни, время для попыток критики: она должна быть спокойна, беспристрастна, к ней не должно примешиваться личное чувство, вызванное нежданной смертью нашего дорогого писателя. Серьезная оценка его деятельности и знаменательного значения этой деятельности для русского общества -- предстоит будущему. Но всем, кто лично знал его, кто потерял в нем не только одного из самых видных и влиятельных литературных и общественных деятелей, но и близкого человека, теперь с тоскою думается уж не о вдохновенном писателе, а о Федоре Михайловиче, которого никогда больше не увидишь, которому больше никогда не пожмешь руку. Так будто и слышится его то раздраженный, то ласковый голос, так и мелькают во всех подробностях все те мелочи, совокупность которых составляет и внешний и внутренний образ человека, и которые начинаешь особенно ценить, когда человека не станет... Я знал Федора Михайловича не просто как знакомого -- он был моим учителем и исповедником. Особенные обстоятельства помогли моему с ним сближению с первой же минуты нашей встречи, и сближение это относится именно к тому периоду его жизни, когда он был почти одиноким и поддерживал сношения только с ограниченным кружком своих старых друзей. В то время Достоевский имел на меня решительное влияние и я придавал большое значение почти каждому сказанному мне им слову. Поэтому я имел обычай тогда же записывать многие наши разговоры, его рассказы, и по преимуществу рассказы о себе самом. Я храню некоторые его интересные письма. Все это дает мне теперь возможность сразу и легко разобраться в моих воспоминаниях, не боясь ошибок моей памяти. Мне только жаль, что я не могу в настоящее время рассказать всего, что у меня записано и что я помню -- я не хочу обвинений в нескромности, не хочу много говорить о живых еще людях, и потому мне остается представить только отрывки из моих воспоминаний о Федоре Михайловиче. Жаль мне еще и то, что, говоря о нем, я неизбежно должен говорить и о себе; но самое свойство и форма личных воспоминаний должны в этом оправдать меня перед читателями. Достоевский сделался любимейшим моим писателем с той самой поры, когда я прочел первую из повестей его, попавшуюся мне под руку, а это случилось в самые ранние годы моего отрочества. Всякий художник-писатель тогда легко овладевал моей душой, увлекал и заставлял переноситься в мир своих образов и фантазий. Но выхода из под этого обаяния, а сейчас же и отрезвлялся. Не то было со мной при чтении Достоевского. Это чтение составляло для менz высочайшее наслаждение и в то же время муку. Страстный, страдающий автор с первой же страницы схватывал меня и уносил против воли в свое мрачное царство, где он собирал все, что только есть темного, больного, мучительного и безобразного в нашей общественной и личной жизни, где светлые и здоровые образы являются как исключение. Я чувствовал, что он вскрывает такую глубину человеческого я и освещает в ней такие явления, что становилось страшно. Он находил выражение самым неуловимейшим ощущениям и мыслям. Это был какой-то горячечный сон -- яркий, мучительный, потрясающий. Грезилось что-то огромное, сложное. Все перепутано, все кружится, несется в страстном вихре, и над всем этим царит одно томительное, давящее и необычайное, сильное ощущение. И вдруг этот мрак, этот ужас озаряются кротким светом, раздается голос любви, прощения, примирения. Страх отходит, из глубины души поднимаются тихие слезы... Чтение окончено, но впечатление его остается на долго. Нервы потрясены, мысль работает. Этот горячечный сон, в котором почти всегда такая путаница образов, положений, в котором все сбито в одну кучу, часто пригнано в одно место, в одной минуте, не смотря на всю свою видимую фантастичность, оказывается полным самой живой, самой глубочайшей жизненной правды. Этот мучительный мир, эти стоны и вопли страждущей, загрязненной души человеческой, порывающейся из своей грязи, ищущей правды и света и спасаемой любовью -- были всегда близки и понятны даже полуребенку, не знавшему жизни. Но время шло, и то, что сначала воспринималось только инстинктивно чуткими нервами, с каждым годом сознательнее и яснее запечатлевалось в мысли. Появление "Преступления и Наказания" было для меня огромным событием. Я читал эту книгу дни и ночи; кончал и опять перечитывал. Я очень много пережил в то время и вышел из этой школы совсем измененным. Потом, каждого нового романа Достоевского и дожидался с лихорадочным волнением. Но я дожидался не одного романа, а и его автора, потому что этот автор выступал из-за каждой строки, и я, никогда не видав его, был уже с ним близко знаком и горячо любил его. Все, что можно было узнать о нем, об его жизни -- я узнавал, но этого оказывалось очень мало: а не встречался с людьми хорошо его знавшими... Еще прошли года, и именно те года первой юности, которые играют такую важную роль в жизни каждого человека, когда идет такая неугомонная внутренняя работа. Изменялись мысли, взгляды, вкусы, многое переделывалось -- оставалось однако неизменным влияние творчества Достоевского и его собственного нравственного образа, запечатленного в его творениях. Я кончил университетский курс, переехал из Москвы на житье в Петербург, только что начинал знакомиться с самостоятельной жизнью. У меня не было никаких знакомств с литературными кружками и хотя Алексей Феофилактович Писемский дал мне, перед моим отъездом из Москвы, несколько рекомендательных писем к его петербургским приятелям-литераторам -- я не воспользовался этими письмами. Я печатал, где приходилось, лирические пьески без своей подписи и этим все ограничивалось. В самом конце 1872 года я прочел в газетах объявление об издании журнала "Гражданин" под редакцией Достоевского. Я думал, что он все еще за границей; но вот он здесь, в одном городе со мною, я могу его видеть, говорить с ним. Меня охватила радость, волнение. Я был ужасно молод и не стал задумываться: сейчас же отправился в редакцию "Гражданина" узнать адрес нового редактора. Мне дали этот адрес. Я вернулся к себе, заперся и всю ночь напролет писал Достоевскому. Мне любопытно было бы прочесть теперь письмо это. Может быть, в нем было очень много лишнего, но, во всяком случае, я сказал ему все, что мог сказать человеку, которого любил так долго и который имел на меня такое влияние 1 . На следующее утро я послал это письмо по почте и ждал. Прошло три, четыре дня -- никакого ответа. Но я нисколько не смущался, я был совершенно уверен, что Достоевский не может мне не ответить. Наступил новый, 1873-й год. Первого января, вернувшись к себе поздно вечером и подойдя к письменному столу, я увидел среди дожидавшихся меня писем визитную карточку, оборотная сторона которой была вся исписана. Взглянул -- "Федор Михайлович Достоевский". С почти остановившимся сердцем я прочел следующее: "Любезнейший Всеволод Сергеевич, я все хотел вам написать; но откладывал, не зная моего времени. С утра до ночи и ночью был занят. Теперь заезжаю и не застаю вас, к величайшему сожалению. Я дома бываю около восьми часов вечера, но не всегда. И так у меня спутано теперь все по поводу новой должности моей, что не знаю сам, когда бы мог вам назначить совершенно безошибочно. Крепко жму вашу руку. Ваш Ф. Достоевский " . Я чувствовал и знал, что он мне ответит; но эти простые и ласковые слова, это посещение незнакомого юноши (в письме своем я сказал ему года мои 2) -- все это тронуло меня, принесло мне такое радостное ощущение, что я не спал всю ночь, взволнованный и счастливый. Я едва дождался вечера. Я замирал от восторга и волновался, как страстный любовник, которому назначено первое свидание. В начале восьмого я поехал. Он жил тогда в Измайловском полку, во 2-й роте. Я нашел дом No 14, прошел в ворота и спросил -- мне указали отдельный флигелек в глубине двора. Сердце так и стучало... Я позвонил дрожащей рукою. Мне сейчас же отворила горничная, но я с минуту не мог выговорить ни слова, так что она несколько раз и уже с видимым недоумением повторила: "Да вам что же угодно?" -- Дома Федор Михайлович? -- наконец проговорил я. -- Дома-с, а барыни нету -- в театре. Я взобрался по узкой, темной лестнице, сбросил шубу на какой-то сундук в низенькой передней. -- Пожалуйте, тут прямо... отворите двери, они у себя, -- сказала горничная и скрылась. Я прошел через темную комнату, отпер дверь и очутился в его кабинете. Но можно ли было назвать кабинетом эту бедную, угловую комнатку маленького флигелька, в которой жил и работал один из самых вдохновенных и глубоких художников нашего времени! Прямо, у окна, стоял простой старый стол, на котором горели две свечи, лежало несколько газет и книг... старая, дешевая чернильница, жестяная коробка с табаком и гильзами. У стола маленький шкаф, по другой стене рыночный диван, обитый плохим красноватым репсом; этот диван служил и кроватью Федору Михайловичу, и он же, покрытый все тем же красноватым, уже совсем вылинявшим, репсом, бросился мне в глаза через восемь лет, на первой панихиде... Затем несколько жестких стульев, еще стол -- и больше ничего. Но, конечно, все это я рассмотрел потом, а тогда ровно ничего не заметил -- я увидел только сутуловатую фигуру, сидевшую перед столом, быстро обернувшуюся при моем входе и вставшую мне навстречу. Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с негустой русой бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление -- это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной, духовной жизни. Замечалось в нем и много болезненного -- кожа была тонкая, бледная, будто восковая. Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах -- это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты. Потом я скоро привык к его лицу и уже не замечал этого странного сходства и впечатления; но в тот первый вечер оно меня так поразило, что я не могу его не отметить... Я назвал себя. Достоевский ласково, добродушно улыбнулся, крепко сжал мою руку и тихим, несколько глухим голосом сказал: -- Ну, поговорим... Он усадил меня на стул перед столом, сел рядом со мною и начал набивать толстые, большие папиросы, часто поднимая на меня тихие, ласковые глаза. Он, конечно, сразу же заметил, что перед ним совершенно смущенный и взволнованный юноша, и сумел так отнестись ко мне, что через несколько минут моего смущения как не бывало. Мы встретились, будто старые и близкие знакомые после непродолжительной разлуки. Он рассказывал мне о своих делах и обстоятельствах по поводу новой его должности редактора "Гражданина", передавал свои планы, надежды, которые он возлагал на это дело. -- Только не знаю, не знаю, как справлюсь со всем этим, как разберусь... вот у меня есть сюжет для повести 3 , хороший сюжет; я рассказал М 4 , и он умоляет меня написать для "Гражданина", но ведь это помешает "Дневнику", не могу же я два дела разом, никогда не мог, если писать разом две различные вещи -- обе пропали... ну вот и не знаю сам, на что решиться... нынче всю ночь об этом продумаю... Насколько мог, я отстаивал "Дневник", особенно на первое время. -- Ведь это, -- заметил я, -- такая удобная форма говорить о самом существенном, прямо и ясно высказаться. -- Прямо и ясно высказаться! -- повторил он, -- чего бы лучше, и, конечно, о, конечно, когда-нибудь и можно будет; но нельзя, голубчик, сразу, никак нельзя, разве я об этом не думал, не мечтал!.. да что же делать... Ну и потом, есть вещи, о которых если вдруг, так никто даже и не поверит. Вот хоть бы о Белинском (он раскрыл номер "Гражданина" с первым своим "Дневником писателя"), разве тут я все сказал, разве то я мог бы сказать!! И совсем-то, совсем его не понимают. Я хотел бы просто привести его собственные слова -- и больше ничего... ну, и не мог. -- Да почему же? -- По непечатности. Он передал мне один разговор с Белинским, который действительно напечатать нельзя и который вызвал с моей стороны замечание, что ведь от слова до дела еще далеко, у каждого человека могут быть самые чудовищные быстролетные мысли, и, однако, эти мысли никогда не превращаются в дело, и только иные люди, в известные минуты, любят с напускным цинизмом как бы похвастаться какой-нибудь дикой мыслью. -- Конечно, конечно, только Белинский-то был не таков; он если сказал, то мог и сделать; это была натура простая, цельная, у которой слово и дело вместе. Другие сто раз задумаются, прежде чем решиться, и все же никогда не решатся, а он нет. И знаете, теперь, вот в последнее время, все больше и больше разводится таких натур: сказал -- и сделал, застрелюсь -- и застрелился, застрелю -- и застрелил. Все это -- цельность, прямолинейность... и, о, как их много, а будет и еще больше -- увидите!.. 5 Я не замечал, как шло время. Переходя от одного к другому, мы начали сообщать друг другу сведения о самих себе. Я жадно ловил каждое его слово. Он спросил меня о годе и дне моего рожденья и стал припоминать: -- Постойте, где я был тогда?.. в Перми... мы шли в Сибирь... да, это в Перми было... Он рассказал, между прочим, об одном человеке, который имел на него самое сильное влияние. Это был некто Шидловский 6 . Через несколько лет, когда я просил Федора Михайловича сообщить мне некоторые биографические и хронологические сведения для статьи о нем, которую я готовил к печати, он говорил мне: -- Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради бога, голубчик, упомяните -- это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало... 7 Шидловский, по рассказам Достоевского, был человек, в котором мирилась бездна противоречий: он имел "громадный" ум и талант, не выразившийся ни одним писаным словом и умерший вместе с ним; кутеж и пьянство -- и пострижение в монахи. Умирая, он сделал бог знает что: он был тоже в Сибири, на каторге; когда его выпустили, то из железа своих кандал он сделал себе кольцо, носил его постоянно и, умирая, -- проглотил это кольцо... Мне хотелось узнать что-нибудь достоверное об ужасной болезни -- падучей, которою, как я слышал, страдал Достоевский, но, конечно, я не мог решиться даже и издали подойти к этому вопросу. Он сам будто угадал мои мысли и заговорил о своей болезни. Он сказал мне, что недавно с ним был припадок. -- Мои нервы расстроены с юности, -- говорил он. -- Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь 8 . Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот право -- настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно -- как только я был арестован -- вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири, и никогда потом я ее не испытывал -- я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен... Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Все, что было со мною до этого первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал -- я помню до мельчайших подробностей. Все, что началось после первого припадка, я очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забыл все, что написал после каторги; когда дописывал "Бесы", то должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц... 9 Он рассказал мне о своей недавней, второй женитьбе, о детях 10 . -- Жена в театре, дети спят, -- в следующий раз увидите... да вот -- карточка моей маленькой дочки, ее я зову -- Лиля. Она тут похожа. Видя, что карточка мне нравится, он сказал: -- Возьмите ее себе. Потом говорил о четырех последних годах своей жизни за границей, об русских людях, превратившихся в европейцев и возненавидевших Россию, и главным образом об одном из них, хорошо всем известном человеке... 11 говорил о страсти к рулетке, о всякой страсти, о любви... Он меня исповедовал... -- Нет, кто любит, тот не рассуждает, -- знаете ли, как любят! (и голос его дрогнул, и он страстно зашептал): если вы любите чисто и любите в женщине чистоту ее и вдруг убедитесь, что она потерянная женщина, что она развратна -- вы полюбите в ней ее разврат, эту гадость, вам омерзительную, будете любить в ней... вот какая бывает любовь!.. Было поздно, я стал прощаться. Он взял меня за руку и, удержав, сказал, что ему бы хотелось непременно ввести меня в тот литературный кружок, к которому он теперь принадлежит. -- Вы там встретите очень интересных, очень, очень умных и хороших людей... 12 -- Нисколько в этом не сомневаюсь, только я-то буду самым плохим приобретением для этих людей. Знаете ли, что я удивительно неловок, конфузлив до болезни и иногда способен молчать как убитый... Если я сегодня, с вами, не таков, то ведь это потому, что я много лет ждал сегодняшнего вечера, тут совсем другое... -- Нет, вас непременно нужно вылечить -- ваша болезнь мне хорошо понятна, я сам страдал от нее не мало... Самолюбие, ужасное самолюбие -- отсюда и конфузливость... Вы боитесь впечатления, производимого вами на незнакомого человека, вы разбираете ваши слова, движения, упрекаете себя в бестактности некоторых слов, воображаете себе то впечатление, которое произведено вами -- и непременно ошибаетесь: впечатление произведено непременно другое; а все это потому, что вы себе представляете людей гораздо крупнее, чем они есть; люди несравненно мельче, простее, чем вы их себе представляете... Я должен был с ним согласиться, дал слово исполнить его желание, и мы условились, что через несколько дней он вывезет меня в литературный свет... Прием, сделанный мне Достоевским, и этот вечер, проведенный в откровенной с ним беседе, конечно, способствовали нашему скорому сближению. Я спешил к нему в каждую свободную минуту, и если мы не виделись с ним в продолжение недели, то он уж и пенял мне. По привычке, он работал ночью, засыпал часов в семь утра и вставал около двух. Я заставал его обыкновенно в это время в его маленьком, мрачном и бедном кабинетике. На моих глазах, в эти последние восемь лет, он переменил несколько квартир, и все они были одна мрачнее другой, и всегда у него была неудобная комната, в которой негде было повернуться. Он сидел перед маленьким письменным столом, только что умывшись и причесавшись, в старом пальто, набивая свои толстые папиросы, курил их одна за другою, прихлебывая крепчайший чай или еще более крепкий кофе. Почти всегда я заставал его в это время в самом мрачном настроении духа. Это сейчас же и было видно: брови сдвинуты, глаза блестят, бледное как воск лицо, губы сжаты. В таком случае он обыкновенно начинал с того, что молча и мрачно протягивал мне руку и сейчас же принимал такой вид, как будто совсем даже и не замечает моего присутствия. Но я уж хорошо знал его и не обращал на это внимания, а спокойно усаживался, закуривал папиросу и брал в руки первую попавшуюся книгу. Молчание продолжалось довольно долго, и только время от времени, отрываясь от набивания папирос или проглядывания газеты, он искоса на меня поглядывал, раздувал ноздри и тихонько крякал. Я ужасно любил его в эти минуты, и часто мне очень трудно бывало удержаться от улыбки. Он, конечно, замечал, что и я на него поглядываю. Он выжидал, но мое упрямство часто побеждало. Тогда он откладывал газету и обращал ко мне свое милое, изо всех сил старавшееся казаться злым лицо. -- Разве так делают порядочные люди? -- сквозь зубы говорил он, -- пришел, взял книгу, сидит и молчит!.. -- А разве так порядочные люди принимают своих посетителей? -- отвечал я, подсаживаясь к нему, -- едва протянул руку, отвернулся и молчит! Он тоже улыбался и каждый раз, в знак примирения, протягивал мне свои ужасные папиросы, которых я никогда не мог курить. -- Вы это читали? -- продолжал он, берясь за газету. И тут начинал высказываться о каком-нибудь вопросе дня, о каком-нибудь поразившем его известии. Мало-помалу он одушевлялся. Его живая, горячая мысль переносилась от одного предмета к другому, все освещая своеобразным ярким светом. Он начинал мечтать вслух, страстно, восторженно, о будущих судьбах человечества, о судьбах России. Эти мечты бывали иногда несбыточны, его выводы казались парадоксальными. Но он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно и в то же время таким пророческим тоном, что очень часто я начинал и сам ощущать восторженный трепет, жадно следил за его мечтами и образами и своими вопросами, вставками подливал жару в его фантазию. После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясенными нервами, в лихорадке. Это было то же самое, что и в те годы, когда, еще не зная его, я зачитывался его романами. Это было какое-то мучительное, сладкое опьянение, прием своего рода гашиша. Приходя к нему вечером, часов в восемь, я заставал его после только что оконченного им позднего обеда, и тут уж не приходилось повторять утренней сцены -- молчания и незамечания друг друга. Тут он бывал обыкновенно гораздо спокойнее и веселее. Тот же черный кофе, тот же черный чай стояли на столе, те же толстые папиросы выкуривались, зажигаясь одна об другую. Разговор обыкновенно велся на более близкие, более осязательные темы. Он бывал чрезвычайно ласков, а когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо. В таком настроении он часто повторял слово "голубчик". Это действительно особенно ласковое слово любят очень многие русские люди, но я до сих пор не знал никого, в чьих устах оно выходило бы таким задушевным, таким милым. -- Постойте, голубчик! -- часто говорил он, останавливаясь среди разговора. Он подходил к своему маленькому шкафику, отворял его и вынимал различные сласти: жестянку с королевским черносливом, свежую пастилу, изюм, виноград. Он ставил все это на стол и усиленно приглашал хорошенько заняться этими вещами. Он был большой лакомка, я не уступал ему в этом. И во время дальнейшего разговора мы не забывали жестянку и корзиночки. Часто, по средам, просидев часов до десяти, мы отправлялись с ним в тот литературный кружок, в который он ввел меня. Это было довольно далеко, но шли ли мы или ехали, он почти всегда упорно молчал дорогой, и я даже замечал, что он действительно не слышит обращенных к нему вопросов. Он появлялся в кабинете хозяина, где уж обыкновенно были налицо некоторые из более или менее замечательных литературных и общественных деятелей, появлялся как-то сгорбившись, мрачно поглядывая, сухо раскланиваясь и здороваясь, будто все это были его враги или по меньшей мере очень неприятные ему люди. Но проходило несколько минут, и он оживлялся, начинал говорить, спорить и почти всегда оказывался центром собравшегося общества. Он был самым искренним человеком, и потому в словах его, мнениях и суждениях часто встречались большие противоречия; но был ли он прав или неправ, о чем бы ни говорил, он всегда говорил с одинаковым жаром, с убеждением, потому что высказывал только то, о чем думал и во что верил в данную минуту. Его редакторская деятельность, на которую он возлагал такие надежды в первое наше свидание, оказалась не вполне удачной, что, впрочем, можно было сразу предвидеть, зная характер его и обстоятельства 13 . Репутация журнала была уже составлена, против него уже резко и даже неприлично высказалась почти вся тогдашняя журналистика. На нового редактора со всех сторон посыпались насмешки, глупые и пошлые. Автора "Преступления и наказания" и "Записок из Мертвого дома" называли сумасшедшим, маньяком 14 , отступником, изменником, приглашали даже публику идти на выставку в Академию художеств и посмотреть там портрет Достоевского, работы Перова, как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишенных. По своей натуре болезненный, раздражительный, нервный и крайне обидчивый, Достоевский не мог не обращать внимания на этот возмутительный лай. Как ни уговаривали его, между прочими и я, просто не читать этой неприличной брани, не пачкаться ею, он покупал каждый номер газеты, где о нем говорилось, читал, перечитывал и волновался. Но, конечно, ни одного малейшего шага, ни одного слова он себе не позволил для того, чтобы поправить свои дела перед расходившейся прессой. Торговаться и уступать, где дело касалось его убеждений, хотя бы и ошибочных, но всегда искренних, он не был способен: это было не в его честной натуре. Он мечтал в первое время заставить общество слушать себя и своих единомышленников посредством редактируемого им журнала; по скоро убедился, что это крайне трудно, почти невозможно. Журнал начался слишком односторонне, и хотя к его редакции примыкало несколько умных и талантливых людей, но их было очень мало, и, имея другие обязанности, они не могли отдавать журналу все свои силы. Затем, у журнала были слишком небольшие материальные средства, случайные сотрудники были так плохи, что выбирать из них было почти нечего. Наконец, Достоевский не был вполне самостоятелен как редактор; но если б он и оказался самостоятельным, полноправным хозяином и собственником журнала, то все же вряд ли бы этот журнал пошел. Достоевский был художник-романист, горячий и искренний публицист-мыслитель, но он всегда был непрактичным человеком, плохим администратором; он не годился в редакторы. При этом надо принять во внимание и то, что он был человек порыва, увлечения... Один раз я его застал с какой-то книгой в руке; он находился в возбужденном состоянии. -- Что это? что вы читаете? -- Что я читаю?! -- сейчас же отправляйтесь и купите эту книгу -- это повести Кохановской 15 . -- Я их знаю... читал... очень милые повести; не особенно сильный, но оригинальный и симпатичный талант. -- Стыдитесь! -- закричал он, -- как вы судите, да знаете ли вы, понимаете ли, что это за повести? я сейчас бы отдал самые лучшие мои вещи, отдал бы "Преступление и наказание", "Записки из Мертвого дома", чтобы только подписаться под этими повестями... Вот это какая книга! Да я не знаю, где у нас лучшие, есть ли они?! Кто так пишет!.. Противоречить ему, доказывать, что он сам фантазирует на тему автора и восхищается плодами своей фантазии, было невозможно. А на следующий же день, именно на следующий день, он говорил: -- Нет, наши женщины совсем не умеют писать; вот, например, Кохановская, у ней есть талант, есть чувство, даже кой-какие мысли, но как она пишет, как пишет... разве можно так писать?! -- Помилуйте, Федор Михайлович, да не вы ли вчера с жаром объявляли, что готовы отдать все свои романы, чтобы подписаться под ее повестями! -- невольно крикнул я. Он остановился, сердито взглянул на меня и сквозь зубы проговорил: -- Никогда ничего подобного я не мог сказать... я не помню. И я убежден, потому что хорошо знал его, что он действительно не помнил сказанного. Он мог забыть что угодно, но как накануне, так и теперь он был совершенно искренен. Это было впечатление минуты... Да, он забывал многое; он слишком увлекался. Но во всю жизнь не забыл и не изменил он своих заветных убеждений, именно всего того, что ему предназначено было сказать нового, истинного и прекрасного, за что он боролся и что, наконец, принесло ему славу. Это доказывает вся его литературная деятельность, все его произведения, проникнутые единым духом, одним чистым чувством и одной высокой мыслью. Он выдержал год своего редакторства и оказался крайне утомленным. Не то чтобы дела было много, но он очень медленно работал, и работа была не по нем. А главное, явилось убеждение, что из дела, на которое возлагались такие большие надежды, не может выйти ожидаемого результата. Наконец, он не мог разом работать две работы. Он все собирался писать новый роман и не находил времени, а между тем материалу накопилось достаточно, пора было высказаться в образах, в широкой картине 16 . В начале 1874 года он стал мне все чаще и чаще жаловаться на свое положение и наконец объявил, что дотянет только до лета и летом освободится. Тут именно, весною 1874 года, по различным моим обстоятельствам, я видался с ним реже. Как-то он заехал ко мне и, не застав меня, оставил записку, в которой, между прочим, объявлял, что через несколько дней должен засесть на гауптвахту в качестве редактора "Гражданина" 17 . Утром 22 марта пришел ко мне Аполлон Николаевич Майков. -- А я к вам, знаете, откуда? -- сказал он, -- от узника: сидит наш Федор Михайлович... ступайте к нему, он ждет вас. -- В каком же он настроении? -- В самом лучшем; непременно отправляйтесь. Мы побеседовали несколько минут, и я поехал в известный уголок Сенной площади. Меня тотчас же пропустили. Я застал Федора Михайловича в просторной и достаточно чистой комнате, где, кроме него, в другом углу был какой-то молодой человек, плохо одетый и с самой бесцветной физиономией. Федор Михайлович сидел за маленьким простым столом, пил чай, курил свои папиросы, и в руках его была книга. Он мне обрадовался, обнял и поцеловал меня. -- Ну, вот и хорошо, что пришли, -- ласково заговорил он, -- а то вы совсем пропали в последнее время. Я собирался даже писать вам кой о чем, потому что вы мне что-то начинаете не нравиться. Скажите, отчего вы пропали? или на меня сердитесь?.. но я думал, думал, вам не за что на меня сердиться. -- Да я и не думаю сердиться, действительно не за что; напротив, я сколько раз к вам собирался, но вот никак не мог собраться: я нигде не бываю; по целым дням сижу дома. Он задумался. -- Да, вот я так и решил, так оно и есть... вот об этом и поговорим, голубчик. Я оглянулся на молодого человека, бывшего в комнате. Федор Михайлович стал стучать пальцем по столу, что в известные минуты было одною из его привычек. -- Не обращайте внимания, -- шепнул он, -- я уж его всячески пробовал; это какое-то дерево, может, и разберу, что такое, только нечего его стесняться. И действительно, мы сейчас же и позабыли о присутствии этого свидетеля. -- Видите, что я хотел вам сказать, -- заговорил Достоевский, -- так у вас не может продолжаться, вы что-нибудь с собою сделайте... и не говорите, и не рассказывайте... я все знаю, что вы мне хотите сказать, я отлично понимаю ваше состояние, я сам пережил его. Это та же моя нервная болезнь, может быть, в несколько иной форме, но, в сущности, то же самое. Голубчик, послушайте меня, сделайте с собою что-нибудь, иначе может плохо кончиться... Ведь я вам рассказывал -- мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... И только что было решено, так сейчас все мои муки и кончились, еще во время следствия. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и -- вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал?.. я писал "Маленького героя" -- прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом чем дальше, тем было лучше. О! это большое для меня было счастие: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу! 18 Это было сказано до такой степени горячо и серьезно, что я не мог не засмеяться и не обнять его. -- Федор Михайлович, за что же меня на каторгу?! или вы мне будете советовать, чтобы я пошел да убил кого-нибудь?! Он сам улыбнулся. -- Да, конечно... ну придумайте что-нибудь другое. Но знаете, ведь это было бы для вас самым лучшим. -- И не в одной Сибири каторга, -- сказал я, -- ее можно найти и здесь, но я все же себе этого не желаю, хотя то, что вы называете моей нервной болезнью, меня очень мучает и тревожит за будущее; меня действительно начинает одолевать невыносимая апатия, и хотелось бы из нее выхода. -- Так придумайте... придумайте, решитесь на какой-нибудь внезапный, отчаянный шаг, который бы перевернул всю жизнь вашу. Сделайте так, чтобы кругом вас было все другое, все новое, чтобы вам пришлось работать, бороться: тогда и внутри вас все будет ново, тогда вы познаете радость жизни, будете жить как следует. Ах! жизнь хорошая вещь; ах, как иногда хорошо бывает жить! В каждой малости, в каждом предмете, в каждой вещице, в каждом слове сколько счастья!.. Знаете ли, мне вот хорошо сегодня: эта комната, это сознание, что я заперт, что я арестант, мне столько напоминает, столько такого хорошего, и я вот думаю: боже мой! как я мало тогда еще ценил свое счастие; я тогда научился наслаждаться всем; но вернись теперь то время, я бы еще вдвойне наслаждался... Он еще долго говорил на эту тему, а потом вдруг схватил книгу, за которой я застал его, и сказал: -- Вот чем я теперь зачитываюсь: это вещь замечательная, великая вещь!.. прочтите ее непременно. Книга была -- "Les Miserables" 19 Виктора Гюго. И горячая похвала этой книге, даже восторг перед нею оказался не капризом, не минутным впечатлением. Достоевский, до последних дней своих, восхищался этой книгой. Тщетно я говорил ему, что хотя в "Les Miserables" есть большие достоинства, но есть и большие недостатки, что местами растянуто и чрезвычайно сухо, что автору "Преступления и наказания" совсем уже нечего преклоняться перед "Les Miserables"; он продолжал восхищаться и всегда находил в этой книге то, чего в ней нет... Между тем нам пора было расстаться. Да он и сам торопил меня съездить к его жене, успокоить ее, сказать, что он совсем здоров и вообще прекрасно себя чувствует. -- Только вы, голубчик, пожалуйста, тихонько, чтобы как-нибудь прислуга не услышала; а то ведь как узнают, что я сижу, так сейчас же подумают, что я украл что-нибудь... Достоевский осуществил свое желание -- освободился от редакторства "Гражданина" и следующую зиму прожил в Старой Руссе, приготовляя к печати новый роман -- "Подросток". В начале 1875 года он приехал на несколько дней в Петербург и навестил меня. Я встречал его совсем в новой обстановке, среди новых забот и занятий, которые стряхнули с меня так озабочивавшую его мою апатию. Нам было о чем поговорить, и я чрезвычайно обрадовался его посещению. Но сразу, только что он вошел, я уже по лицу его увидел, что он до крайности раздражен и в самом мрачном настроении духа. Он сейчас же и высказал причину этого раздражения. -- Скажите мне, скажите прямо -- как вы думаете: завидую ли я Льву Толстому? 20 -- проговорил он, поздоровавшись со мною и пристально глядя мне в глаза. Я, конечно, очень бы удивился такому странному вопросу, если бы не знал его; но я уж давно привык к самым неожиданным "началам" наших встреч и разговоров. -- Я не знаю, завидуете ли вы ему, но вы вовсе не должны ему завидовать, -- отвечал я. -- У вас обоих свои особые дороги, на которых вы не встретитесь, -- ни вы у него ничего не можете отнять, ни он у вас ничего не отнимет. На мой взгляд, между вами не может быть соперничества, а следовательно, и зависти с вашей стороны я не предполагаю... Только скажите, что значит этот вопрос, разве вас кто-нибудь обвиняет в зависти? -- Да, именно, обвиняют в зависти... И кто же? старые друзья, которые знают, меня лет двадцать... Он назвал этих старых друзей. -- Что же, они так прямо вам это и высказали? -- Да, почти прямо... Эта мысль так в них засела, что они даже не могут скрыть ее -- проговариваются в каждом слове. Он раздражительно заходил по комнате. Потом вдруг остановился, взял меня за руку и тихо заговорил, почти зашептал: -- И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают! Я завидую его обстоятельствам, и именно вот теперь... Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить... Господи, и всю-то жизнь!.. Вот я недавно прочитывал своего "Идиота", совсем его позабыл, читал как чужое, как в первый раз... Там есть отличные главы... хорошие сцены... у, какие! Ну вот... помните... свидание Аглаи с князем, на скамейке?.. Но я все же таки увидел, как много недоделанного там, спешного... И всегда ведь так-> вот и теперь: "Отечественные записки" торопят, поспевать надо... вперед заберешь -- отрабатывай, и опять вперед... и так всегда! Я не говорю об этом никогда, не признаюсь; но это меня очень мучит. Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделывать каждую свою вещь, а это большая штука -- когда вещь полежит уже готовая и потом перечтешь ее и исправишь. Вот и завидую... завидую, голубчик!.. -- Конечно, все это так, -- сказал я, -- и все это очень грустно. Но обыкновенно на подобные рассуждения замечают, что необходимость работать -- большая помощь для работы, что при обеспеченности легко может явиться лень. -- И это бывает, конечно, но если кто заленится и ничего не скажет, так, значит, ему и нечего сказать! Он вдруг успокоился и сделался кротким и ласковым. Такие внезапные переходы бывали с ним часто. Это свидание мне особенно памятно потому, что наш дальнейший разговор больше чем когда-либо убедил меня в его искреннем ко мне участии. Советы, которые я в тот день получил от него, принесли мне немало пользы и долго служили большою нравственной поддержкой 21 . Но все это уже мое личное дело и я ограничиваюсь только приведенным выше разговором о "зависти". Я счел себя вправе передать его, потому что он указывает на печальную сторону деятельности многих наших писателей, и по преимуществу деятельности Достоевского. Я знаю в какую тоску, в какое почти отчаяние приводили его иногда отсутствие денежных средств, забота о завтрашнем дне, о нуждах семьи. Он почти всю жизнь не выходил из денежных затруднений, никогда не мог отдохнуть, успокоиться. Все это тяжело отзывалось на его произведениях и почти ни одним из них он не был доволен. Он работал всегда торопясь, часто не успевая даже прочитать им написанного. А между тем ведь он писал не легкие рассказы. У него иногда, в горячие, вдохновенные минуты, выливались глубоко-поэтические сцены, страницы красоты необыкновенной, которых очень много в каждом его романе. Но этого было мало: у него бывали глубокие психологические задачи, в его голове мелькали оригинальные и замечательные решения серьезных нравственных вопросов. Тут минут горячего вдохновения оказывалось недостаточно, требовалась спокойная работа мысли, а обстоятельства не давали его мысли спокойно работать. Потому то в его романах так много неясного, запутанного, потому то его романы, и в особенности последние, широко задуманные, в общем производят впечатление только богатейшего матерьяла для настоящих романов... Больной, измученный, он уставал больше и больше; но уставал не мыслью, не чувством, а просто уставал физически. Ему трудно становилось работать и он работал медленно. Он заранее продавал свой роман, который ожидали с нетерпением. Редакция то и дело понуждала его высылать скорее рукопись. Эти понуждения раздражали его, он волновался, спешил, посылал начало и потом, торопясь продолжением, почти забывал это начало. По мере развития романа являлась необходимость изменять то то, то другое, но исполнить этого уже не было возможности -- то, что нужно было изменить и переработать, оказывалось уже напечатанным. Таким образом являлись великолепные эпизоды, но в общем роман представлял довольно бесформенное и во всяком случае невыдержанное произведение. Он сам отлично сознавал это и подобное сознание для художника являлось горьким мучением. Он сознавал, и в то же время ему болезненно хотелось, чтобы другие не замечали того, что он сам видит. Поэтому всякая похвала доставляла ему большую усладу:) она его обманывала. Поэтому замечаемое им в ком либо понимание его промахов, раздражало его, оскорбляло, мучило... Но я свидетельствую, что сам он, в иные откровенные, теплые минуты, признавался в своих промахах, и скорбел, что судьба ставила его в невозможность во время исправлять их. Это было горе, горше которого не может и быть для творца-художника! И передо мною так и стоит бледное, изнеможенное лицо его в минуты этих мучительных признаний. Я помню один случай. Говоря в одной из газет о "Подростке", указывая на прекрасные эпизоды и многие достоинства этого романа, я все же должен был сказать и об его недостатках 22 . Через несколько дней я пришел к Достоевскому. Он встретил меня как человека, глубоко его оскорбившего, и между нами произошел настолько крупный разговор, что я взял шляпу и хотел уходить. Но он удержал меня, запер двери своей рабочей комнатки и начал оправдываться, доказывать мне, что я ошибался в статье моей. Дело было в старике Макаре Ивановиче, одном из самых любимых им действующих лиц "Подростка". Он стал объяснять мне Макара Ивановича. И конечно, теперь я уж не могу взять на себя беспристрастного суждения о "Подростке": я знаю этот роман не таким, каков он в печати, а таким, каков он был в замысле автора. Достоевский говорил часа два, пожалуй, еще больше, и я мог только сожалеть о том, что не было стенографа, который бы записывал в точности слова его. Если бы то, что он говорил мне тогда, появилось перед судом читателей, то они увидели бы один из высочайших и поэтических образов, когда-либо созданных художником. -- Так вот что такое Макар! -- сказал Достоевский, заканчивая свою горячую речь и мгновенно ослабевая, -- и неужели вы теперь не согласитесь, что вы написали совсем не то, что вы меня обидели и я имел полное право на вас сердиться?! Мне тяжело было говорить ему, что сегодняшний Макар не тот, о котором я говорил, судя по напечатанному тексту... Я испугался того впечатления, которое произвели на него слова мои: он сделался вдруг таким страдающим, таким жалким. Он сидел несколько мгновений неподвижно, опустив голову, сжав брови -- и вдруг поднял на меня глаза, в которых не было и тени ни недавнего раздражения, ни недавнего восторга. Эти глаза были кротки и очень печальны. -- Голубчик! -- сказал он, особенно задушевно выговаривая свое любимое ласкательное слово, -- я знаю, что вы правы, и вы знаете, что я люблю то, что вы пишете, потому что вы пишете всегда искренне; но мне было так тяжело, что именно вы дотронулись до самого больного места!.. А теперь забудьте, что я наговорил, и я тоже забуду... Довольно... довольно!.. Он предложил мне вместе пройтись; но на улице был так мрачен, молчалив и раздражителен, что мне стало тяжело, и я с ним простился. Окончив "Подростка", то есть высказав любимые мысли, воплотив образы, давно мелькавшие в воображении, Достоевский не мог тотчас же приняться за подобную же работу -- за новый роман. А между тем работать было нужно по двум причинам: во-первых, всякий день выставлял новые явления общественной жизни, которые живо затрагивали мыслителя-психолога, о которых хотелось сказать ему свое слово; во-вторых, работа требовалась для жизни, для содержания семьи, для окончательного устройства запутанных дел, которые наконец мало-помалу начинали распутываться. Необходимо было решиться на какую-нибудь работу. О новом редакторстве нечего было и думать -- оно надоело и в его успех, в его пользу уже не верилось. Снова стала приходить мысль, начавшаяся было осуществляться еще в "Гражданине", но затем позабытая". Достоевский подумывал об ежемесячном издании своего "Дневника писателя". Осенью 1875 года, опять переселясь в Петербург из Старой Руссы, он мне говорил об этом, но только еще как о предположении. Он не решался, боялся неудачи. "Подросток" не произвел сильного впечатления. Будет ли достаточно подписчиков у "Дневника писателя", не придется ли пережить новую неудачу, новое оскорбительное разочарование -- их уже и так было немало!.. В декабре у него заболели дети скарлатиной, и во все продолжение шестинедельного карантина я не мог с ним видеться, опасаясь за своего ребенка. Но мы переписывались в это время. В конце декабря он объявил в газетах о подписке на "Дневник писателя". Решился -- но опасения все же его не покидали. "Что выйдет -- не знаю, -- писал он мне, -- все зависеть будет от 1-го No, который выдам в конце января" 23 . Я пророчил ему успех, рассчитывая, что необычная, оригинальная форма издания на первых порах заинтересует публику, а затем заинтересует уже сам автор. Но не такого мнения были литературные и журнальные кружки. На вечере у Якова Петровича Полонского, у которого обыкновенно можно было встретить представителей всевозможных редакций, людей самых различных взглядов, я выслушал с разных сторон заранее подписанный приговор "Дневнику писателя". Решали так, что издание непременно лопнет, что оно никого не заинтересует. Говорили: -- Он, наверное, начнет опять о Белинском, о своих воспоминаниях. Кому это теперь нужно, кому интересно?! 24 -- Ну, а если он начнет о вчерашнем и сегодняшнем дне? -- спрашивал я. -- В таком случае еще того хуже... что он может сказать?! он будет бредить!.. Но и после этого всеобщего приговора я не переставал рассчитывать на успех. С его жаром, с его искренностью, обращаясь прямо к обществу, в форме простой беседы -- разве мог он не заинтересовать? Ведь он сам -- интереснейшее лицо среди самых интересных лиц его лучших романов -- и, конечно, он будет весь, целиком в этом "Дневнике писателя"! Любопытно только, с чего он начнет... Январь 1876 года уже наступил, а карантин в его доме все еще продолжался; я не мог его видеть 25 ; но он сам вывел меня из неизвестности: 11 января, между прочим, он писал мне: "В 1-м No будет во-первых самое маленькое предисловие , затем кое-что о детях -- о детях вообще, о детях с отцами, о детях без отцов в особенности, о детях на елках, без елок, о детях-преступниках... Разумеется, это не какие-нибудь строгие этюды или отчеты, а лишь несколько горячих слов и указаний... "Затем о слышанном и прочитанном ,-- все или кое что, поразившее меня лично за месяц. Без сомнения, "Дневник Писателя" будет похож на фельетон, но с тою разницею, что фельетон за месяц естественно не может быть похож на фельетон за неделю... Тут отчет о событии не столько как о новости, сколько о том, что из него (из события) останется нам более постоянного, более связанного с общей, с цельной идеей. "Наконец, я вовсе не хочу связывать себя даванием отчета... Я не летописец: это, напротив, совершенный дневник в полном смысле слова, т. е. отчет о том, что наиболее меня заинтересовало лично,-- тут даже каприз... "Сам не знаю... выйдет ли что-нибудь путное, порой кажется, что напрасно взялся; а впрочем, что Бог пошлет, только (между нами это) почти ни одной строки еще не написано. Матерьялов же (на 1й No) собрано и записано более чем на 4 печатных листа..." В назначенный день первый номер вышел и сразу произвел сильное впечатление, раскупался нарасхват. Даже газеты позабыли о "сумасшедшем", "маньяке", "изменнике" и заговорили в благоприятном тоне -- ничего другого им не оставалось 26 . Подписка превзошла все ожидания. Успех наконец начал улыбаться измученному труженику. Я не стану останавливаться на постепенном усилении того влияния, которое горячая, искренняя речь Достоевского получала над умами его читателей и по преимуществу над умами молодого поколения. Но и среди успеха бывали тяжелые минуты. Смелые, вдохновенные мысли, пророческий тон Достоевского его противники старались-таки осмеивать. Время было горячее, тревожное; "восточный вопрос" снова стоял на очереди, сербская война, Черняев, добровольцы... чувствовалась неизбежность, необходимость великой борьбы... Достоевский говорил смело, оригинально, по-своему; выставлял неожиданные вопросы и неожиданно освещал их, вдохновенно пророчествовал 27 . Заветные мысли и чувства истинно русского и искреннего человека были многим не по душе, а этот человек вдобавок имел уже большое влияние -- и снова поднялись насмешки. "Парадоксы!" -- кричали газеты -- и опять эти крики раздражительно действовали на Достоевского 28 . В июле 1876 года, он писал мне из Эмса, куда обыкновенно укзжал для лечения: "...Я уехал, не порешив и с некоторыми собственными, самыми необходимыми делами. Но тепёрь, здесь, в скуке, на водах, ваше письмецо решительно оживило меня и дошло прямо к сердцу, а то я стал было и очень уже тосковать, так как, не знаю почему, как попадаю в Эмс, сейчас начинаю тосковать мучительно, с ипохондрией, иногда почти беспредметно. Уединение ли тому причиной среди восьмитысячной толпы, климат ли здешний -- не знаю, но тоскую здесь как никто. Вы пишете, что вам нужно меня видеть; а мне-то как бы желалось вас теперь видеть. "И так июньская тетрадь "Дневника" вам понравилась. Я очень рад тому и имею на то большую причину. Я никогда еще не позволял себе, в моих писаниях, довести не к оторы е мои убеждения до конца, сказать самое последнее слово. Одни умный корреспондент из провинции укорял меня даже, что я о многом завожу речь в "Дневнике", многое затронул, но ничего еще не довел до конца и ободрял не робеть. И вот я взял да и высказал последнее слово моих убеждений -- мечтаний насчет роли и назначения России среди человечества и выразил мысль, что это не только случится в ближайшем будущем, но уже и начинает сбываться. "И что же, как раз случилось то, что я предугадывал: даже дружественные мне газеты и издания сейчас же закричали, что у меня парадокс на парадоксе, а прочие журналы даже и внимания не обратили, тогда как мне кажется, я затронул самый важный вопрос. Вот что значит доводить мысль до конца! Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до конца и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и comme il faut; доведите же иное слово до конца, скажите например вдруг: "вот это-то и есть Мессия" -- прямо и не намеком, и вам никто не поверит именно за вашу наивность, именно за то, что довели до конца, сказали самое последнее ваше слово. А впрочем, с другой стороны, если б многие из известнейших остроумцев, Вольтер, например, вместо насмешек, намеков, полуслов и недомолвок, вдруг решились бы высказать все, чему они верят, показали бы всю свою подкладку разом, сущность свою,-- то поверьте и десятой доли прежнего эффекта не стяжали бы. Мало того -- над ними, бы только посмеялись. Да человек и вообще как то не любит ни в чём последнего слова, "изреченной" мысли, говорит что:
"Мысль изреченная есть ложь".
"И вот, сами судите, дорого ли мне или нет, после всего этого, ваше приветливое слово за июньский No. Значит, вам понятно было мое слово и вы приняли его именно так, как я мечтал, когда писал статью мою. За это спасибо, а то я был уже немножко разочарован и укорял себя, что поторопился . И если таких понимателей найдется в публике еще немного, то цель моя достигнута и я доволен: значит не пропало высказанное слово... А тут как раз и обрадовались: "парадоксы! парадоксы!.." и это говорят именно те, у которых никогда ни одной мысли своей не бывало в голове... "Я пробуду здесь до 7-го августа (нашего стиля). Пью здесь воды, но никогда бы не решился на муку жить здесь, если б эти воды не помогали мне действительно. Описывать Эмс нечего, нечего! Я обещал августовский "Дневник" в двойном числе листов, а между тем еще и не начинал, да и скука, апатия такая, что на предстоящее писание смотрю с отвращением, как на предстоящее несчастье. Предчувствую, что выйдет сквернейший No. Во всяком случае черкните мне сюда, голубчик..." По зимам 1876-1877 и 1877-1878 годов мы продолжали довольно часто видаться. И хотя мы жили на двух противоположных концах города, Достоевский иногда проводил у меня вечера. Отмечу здесь одно обстоятельство, конечно, случайное, в котором нет ничего веселого, но которое между тем подавало повод к довольно комичным сценам. Он приезжал ко мне почти всегда после своих мучительных припадков падучей болезни, так что некоторые наши общие знакомые, узнавая, что у него был припадок, так и говорили, что его нужно искать у меня. Бедный Федор Михайлович имел достаточно времени привыкнуть к своим припадкам, привыкали к ним и их последствиям и его старые знакомые, которым все это уже не казалось страшным и считалось обыкновенным явлением. Но он бывал иногда совершенно невозможен после припадка; его нервы оказывались до того потрясенными, что он делался совсем невменяемым в своей раздражительности и странностях. Придет он, бывало, ко мне, войдет как черная туча, иногда даже забудет поздороваться и изыскивает всякие предлоги, чтобы побраниться, чтобы обидеть; и во всем видит и себе обиду, желание дразнить и раздражать его... Все-то у меня ему кажется не на месте и совсем не так, как нужно, -- то слишком светло в комнате, то так темно, что никого разглядеть невозможно... Подадут ему крепкий чай, какой он всегда любил, -- ему подают пиво вместо чая! нальют слабый -- это горячая вода!.. Пробуем мы шутить, рассмешить его -- еще того хуже; ему кажется, что над ним смеются... Впрочем, мне почти всегда скоро удавалось его успокоить. Нужно было исподволь навести его на какую-нибудь из любимых его тем. Он мало-помалу начинал говорить, оживлялся, и оставалось только ему не противоречить. Через час он уже бывал в самом милом настроении духа. Только страшно бледное лицо, сверкающие глаза и тяжелое дыхание указывали на болезненное его состояние. Но если случайно в подобный день он встречался с посторонними, незнакомыми людьми, то дело усложнялось. Один раз, во время одного такого его вечернего посещения, к жене моей приехали две дамы, которые, конечно, читали Достоевского, но не имели о нем никакого понятия как о человеке, которые не знали, что невозможно обращать внимания на его странности. Когда раздался звонок их, он только что еще осматривался и был ужасен; появление незнакомых лиц его еще больше раздражило. Мне, однако, кой-как удалось увести его к себе в кабинет и там успокоить. Дело, по-видимому, обошлось благополучно; мы мирно беседовали. Он уж улыбался и не находил, что все не на месте. Но вот пришло время вечернего чая, и жена моя, вместо того чтобы прислать его прямо к нам в кабинет, вошла сама и спросила: где мы желаем пить чай -- в кабинете или в столовой? -- Зачем же здесь! -- раздражительно обратился к ней Достоевский, -- что это вы меня прячете? нет, я пойду туда, к вам. Дело было окончательно испорчено. И смех и горе!.. Нужно было видеть, каким олицетворением мрака вошел он в столовую, как страшно поглядывал он на не повинных ни в чем дам, которые продолжали свою веселую беседу, нисколько не заботясь о том, что можно При нем говорить и чего нельзя. Он сидел, смотрел, молчал, и только в каждом его жесте, в каждом новом позвякивании его ложки об стакан я видел несомненные признаки грозы, которая вот-вот сейчас разразится. Не помню, по поводу чего одна из приехавших дам спросила, где такое Гутуевский остров? -- А вы давно живете в Петербурге? -- вдруг мрачно выговорил Достоевский, обращаясь к ней. -- Я постоянно здесь живу, я здешняя уроженка. -- И не знаете, где Гутуевский остров!.. Прекрасно! это только у нас и возможно подобное отношение к окружающему... как это человек всю жизнь живет и не знает того места, где живет?! Он раздражался больше и больше и кончил целым обвинительным актом, который произвел на преступницу и слушательниц самое тяжелое впечатление. Мы же, хозяева, не знали, что и делать. По счастью, наша гостья, сначала вследствие неожиданности сильно озадаченная, скоро поняла, что обижаться ей невозможно, и сумела, продолжая оставаться веселой, и его мало-помалу успокоить... Я рассказал этот маленький случай, потому что говорить о Достоевском и не упомянуть об его странностях -- значило бы недорисовать его образ. О странностях его передается много рассказов, и находятся люди, которые эти странности ставят ему в большую вину. Такие обвинения приходится слышать даже теперь, уже после его смерти... Конечно, он не был создан для общества, для гостиной. От человека, жившего почти всегда в уединении, проведшего четыре года на каторге, десятки лет работавшего и боровшегося с нуждой, от человека, нервная система которого была совершенно потрясена страшной, неизлечимой болезнью, невозможно было требовать уменья владеть собою. Для такого человека -- и вовсе не в силу того, что он был замечательный писатель, один из знаменитых людей русских, а просто в силу всех обстоятельств его жизни, в силу исключительного, болезненного состояния его организма -- нужны были особенные мерки. Его странности могли возмущать не знавших его людей, которым до него не было никакого дела, но все близко его знавшие ничуть не смущались и не могли смущаться этими странностями. Мы знали его ум, его прекрасный талант, его доброту и благородство, разнообразнейшие свойства его яркой, богато одаренной природы. Болезненные странности давали пищу только для добродушных, веселых рассказов о тех импровизированных водевильных сценах, в которых он играл грустно-комическую роль. И теперь, когда его нет, эти бедные странности вспоминаются как нечто дорогое и милое, с грустной улыбкой,-- и больно, что все это прошло. Вместе с этими странностями нежданная могила унесла столько тепла, столько света... Теперь я расскажу об одном обстоятельстве, которое произвело на Достоевского сильное впечатление, чему я был свидетелем, и о котором пока знают очень немногие. В конце 1877 года, в ноябре, я заехал к нему по обыкновению около двух часов и застал его, что случалось не часто в эти часы, в хорошем, даже веселом настроении духа. Его ничто не раздражало, он любил всех и все, проповедывал снисходительность... Просидев часов до четырех, я уже собрался уезжать, как вдруг он остановил меня и спросил: -- Да, вот чуть было не забыл, -- вы знаете гадалку-француженку Фильд? -- Знаю, а что? -- Мне говорил про нее ваш брат; рассказал много интересного. Вы как ее знаете? -- Несколько лет тому назад, отвечал я, одна моя знакомая старушка, жившая тогда в Москве, упросила меня побывать у этой Фильд, показать ей ее фотографический портрет, выслушать то, что она скажет и затем сообщить ей. Старушка уверяла меня, что Фильд эта никак не может назваться обыкновенной гадалкой, что это замечательная предсказательница; при этом она передала мне много интересных случаев ее сбывшихся пророчеств. Я мало заинтересовался этими рассказами, но желая исполнить обещание, данное мною почтенной старушке, приехав в Петербург, сейчас же отправился с ее портретом к этой француженке. -- Ну и что же? какое она произвела на вас впечатление? живо и с видимым интересом спросил Достоевский. -- Странное,-- это маленькая, живая старушка с какими-то особенными, черными глазами и необыкновенным даром слова. Она меня совсем заговорила и заинтересовала, потому что очень верно и определенно описала характер моей знакомой, с портретом которой я явился... -- Неужели вы ее ничего относительно себя не спросили? -- Спросил. Она предсказывала мне больше часу, наговорила много вздору, но в числе этого вздора сказала и такие вещи, которые, как мне тогда казалось, никаким образом не могли случиться и которые, тем не менее, случились со мною во всех мельчайших подробностях, ею предсказанных. Я был у нее еще раз и она опять говорила мне много вздору и много правды. Во всяком случае это интересная женщина и, мне кажется, у нее бывают минуты вдохновения. -- Ну вот, да, все это именно то, что я уж не раз про нее слышал. Видите ли, не верить в возможность предсказаний нельзя, никак нельзя... это вздор! уж не говоря о том, что в истории сохранилось многое в этом роде, но почти каждый человек на себе знает. Все верят и если не признаются, то единственно из малодушия, которого в нас так много. Сам верит, верит, может быть, даже больше, чем бы следовало -- и в то же время смеется, глумится над искренним человеком, который так прямо и скажет, что верит... Вы знаете ее адрес? пойдемте сейчас же, я хочу знать, что она мне скажет!.. -- Пойдемте, если она только живет там же, где я был у нее в последний раз; это не далеко -- в Басковом переулке. Мы отправились. Фильд жила в том же доме и приняла нас. Федор Михайлович был очень серьезен. Он попросил ее, чтобы она предсказывала ему в моем присутствии. Но француженка решительно отказалась -- это было не в ее правилах. -- В таком случае делать нечего, шепнул он мне, -- но я даю вам слово, не утаив, рассказать вам все, что она мне скажет. Я остался ждать в крохотной гостиной и проскучал больше часу. Наконец Достоевский вышел. Он был взволнован, глаза его блестели. -- Пойдемте, пойдемте! таинственно шепнул он мне. Мы вышли и отправились пешком. Он несколько минут шел молча, опустив голову. Потом вдруг остановился, схватил меня за руку, и заговорил: -- Да, она интересная женщина и я рад, что мы к ней отправились. Может она и наврала, но я давно не испытывал такого сильного впечатления. О, как она умеет обрисовывать людей! Если б вы знали, как она рассказала мне мою обстановку! -- Что же она вам говорила? Ведь вы дали мне слово рассказать все без утайки! -- И расскажу, только не распространяйте этого между посторонними до времени, может все наврала, глупо выйдет... Он передал мне все, что она говорила ему о различных его семейных обстоятельствах. Потом оказалось, что больше половины не сбылось, но кой что и сбылось. Она сказала ему, между прочим, что весною у него будет смерть в доме. И хотя в подробностях этого предсказания было много вздорного, но смерть действительно случилась тою же весною: умер его маленький сын, внезапная кончина которого сильно потрясла его. Но дело не в этом, а в других предсказаниях. Не догадываясь кто он и не умея определить его деятельность, Фильд предрекла ему большую славу, которая начнется в скором времени. -- Она сказала, говорил он, что меня ожидает такая известность, такой почет, о которых я никогда не мог и мечтать. Поверить ей, так меня на руках будут носить, засыпать цветами -- и все это будет возрастать с каждым годом, и я умру на верху этой славы... Ну вот, голубчик, может быть, она врунья, только интересная... интересная врунья! А ведь я все-таки же теперь и буду ждать этой славы, и уж это утешительно! -- Хорошо, что она предсказала вам славу, заметил я;-- но ведь вот же она предсказала и семейное горе... -- Да, и я теперь так и думаю, что оно наверное будет. Я вам говорю: она произвела на меня очень сильное впечатление. Ведь другие говорят общими местами, более или менее ловко; но сейчас же и замечаешь шарлатанство, каждое предсказание можно повернуть так или иначе -- ну, а у нее все ясно, определенно. Интересная женщина!.. Мы стали припоминать исторические факты сбывшихся предсказаний; но он то и дело возвращался к словам Фильд, повторял каждую ее фразу. Я оставил его в очень возбужденном состоянии. Вернувшись домой я застал у себя моего брата, в тот же вечер у меня был Аполлон Николаевич Майков, и так как они оба были близки с Федором Михайловичем и я знал, что сообщенное им не будет распространено, то и решился рассказать им подробности предсказания, сделанного француженкой. Потом и сам Федор Михайлович сообщил кой кому об этом предсказании. Ему не долго пришлось дожидаться его исполнения -- все общее сочувствие, горячее поклонение молодежи пришли внезапно, усиливаясь с каждым днем, выражаясь шумными овациями, подносимыми венками и цветами. Достоевский достиг такой популярности, какая еще никогда не выпадала на долю русского писателя... И он скончался на верху этой славы, что достаточно доказали его знаменательные похороны. В последние дни жизни этому вечному труженику, так долго плохо ценимому, улыбнулось счастие... улыбнулась слава. Он успел взглянуть на эту улыбку, что удается не многим даже из самых знаменитых деятелей. И хорошо, что "интересная" француженка не могла предсказать, что ему так мало остается жить, хорошо, что смерть пришла внезапно и застала его среди планов, надежд, среди мыслей о жизни... Печальное утешение -- но все же он умер хорошей для него смертью. Вспоминается мне еще одно из наших свиданий. Мне нужны были для статьи 29 биографические сведения о Федоре Михайловиче, и я обратился к нему за ними. Он охотно вызвался сообщить мне все, что о себе помнил. Начал, ограничиваясь перечнем чисел и фактов, но скоро, по своему обыкновению, увлекся, стал рассказывать: -- Эх, жаль, что вы не можете поместить в статью свою очень много интересного из моей жизни, но все же запомните, может быть, потом кому-нибудь и скажете. Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что, были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. Мне это доказано, слишком доказано! Слушайте, когда я вернулся в Петербург, после стольких-то лет, меня многие из прежних приятелей и узнать не захотели, и потом всегда, всю жизнь друзья появлялись ко мне вместе с успехом. Уходил успех -- и тотчас же и друзья уходили. Смешно это, конечно, старо, известно всем и каждому, а между тем всякий раз больно, мучительно... Я узнавал о степени успеха новой моей работы по количеству навещавших меня друзей, по степени их внимания, по числу их визитов. Расчет никогда не обманывал. О, у людей чутье, тонкое чутье! Помню я, как все кинулись ко мне после успеха "Преступления и наказания"! Кто годами не бывал, вдруг явились, такие ласковые... а потом и опять все схлынули, два-три человека осталось. Да, два-три человека!.. "А друзья были так нужны, жилось тяжело, кредиторы за горло хватали, тюрьмой грозили. И это на первых-то порах моей новой семейной жизни!.. Четыре года я протосковал заграницей, а вернуться боялся -- опять то же, опять кредиторы и заключение за долги... Заграницей не раз бедствовать приходилось -- не будь Каткова, который всегда выручал, просто пропадать пришлось бы!.. Ну, стоит теперь получить большой успех, большую популярность -- столько друзей явится, что и не оберешься. Будут и искренние -- о, конечно! только как же их распознаешь?! Успех -- это, знаете ли, какая вещь -- это величайший соблазн, тут всякое чувство меры теряется, человек вдруг слепнет и делается слабым, проводи его кто хочет, надувай самым грубым манером -- всему поверит, все примет за чистую монету... -- Успех, продолжал он больше и больше оживляясь, успех одного служит успехом для многих. На чужом успехе многие строют свои планы и достигают кое чего: и им перепадает кусочек... Стоит человеку получить большой, решительный успех, популярность настоящую, с которой уж нельзя спорить, которую уж никаким хитростями не уничтожишь, не уменьшишь,-- и смотришь: за этим человеком непременно хвостики... хвостики! "Возле видного человека и меня дескать заметят". О, сколько в таких случаях можно сделать интересных наблюдений! только тот, за кем эти "хвостики", таких наблюдений не сделает, ибо вдруг теряет чувство меры... Да, только что же об этом -- поживете, много такого увидите!.. Он замолчал и стал стучать пальцем по столу хмуря брови. В последние два года жизни Достоевского, я почти с ним не видался. Я провел эти два года в Царском Селе, приезжая в Петербург только по делам, окончив которые всегда спешил обратно домой. Дела, работы, семейное горе, неудобство сообщения -- все отдалило меня на это время от старых знакомых. Мне не удалось и в самые последние месяцы жизни Федора Михайловича с ним видеться, хотя я снова переселился в Петербург: долгий карантин, начавшийся у меня в доме, был тому причиной. За все это последнее время, за эти краткие годы предсмертных успехов Достоевского и его славы, многие, конечно, могут сообщить о нем интересные сведения. Он вел уже не прежнюю уединенную жизнь, он был окружен ежедневно прибывавшими ценителями. Говорят, он получал много писем от совсем даже неизвестных ему людей из различных мест России и отвечал на эти письма. Все это конечно интересно. За это время могут говорить о нем и его старые друзья и знакомые, которые продолжали с ним видеться, и его новые ценители, которым удалось узнать его, сблизиться с ним в его предсмертные годы и может быть искренно полюбить его. Наконец, могут говорить о нем за это время и те, кого он называл "хвостиками". Я же пока должен ограничиться этими отрывками моих воспоминаний. Мне хотелось только помянуть, употребляя его же выражение, "большого" для меня человека, который принес мне много нравственной пользы... Он умер оплаканный так, как у нас до сих пор еще не оплакивали почти ни одного общественного деятеля. Его объявили учителем русского молодого поколения, представители которого в великом множестве шли за его гробом с выражением самой искренней печали. Остается только желать и чтобы нравственный образ учителя и его вдохновенное слово не забылись и проникли в жизнь тех, кто называл его учителем. Остается скорбеть, что этот учитель отошел от нас так рано, в черные, безобразные дни, которые мы переживаем. Именно теперь, в эти черные дни, он был бы так нужен. Он не мог бы, конечно, одной своею силою рассеять тот мрак, который нас окутывает и указать нам прямую дорогу. Для такого подвига недостаточно сил одного человека. Но можно смело сказать, что Достоевский, по свойству своего таланта, при силе своей честной мысли, всегда прямой, и искренно, страстно любивший Россию, только и думавший о ее великой будущности -- сумел бы поднять самые неотложные, самые существенные вопросы. И уж одно это было бы теперь не малой заслугой.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается с сокращениями по журналу "Исторический вестник", 1881, No 3, стр. 602-616, No 4, стр. 839-853. 1 Письмо Вс. Соловьева напечатано в комментариях к т. III Писем (стр. 298-300). В нем речь идет о спорах студенческой молодежи, увлеченной тогда позитивизмом. Вс. Соловьев с самого начала относился к этой философии резко враждебно. Подтверждение своих мыслей он видел в романах Достоевского. В этом же письме Соловьев называл Достоевского "гениальным учителем", писал, что русское общество "еще не доросло" до понимания и оценки его таланта. 2 В своем письме Вс. Соловьев сообщил не года свои, а тот факт, что "нету еще трех лет, как окончил курс". Вс. Соловьеву было в это время около двадцати трех лет. 3 О каком сюжете идет здесь речь -- установить по имеющимся в нашем распоряжении данным невозможно. Это был, по всей вероятности, один из тех многочисленных сюжетов, которые постоянно бродили в голове Достоевского и иногда лишь в Двух-трех фразах сохранялись в его черновиках (см. об этом Письма, III, 19; IV, 298-299). 4 В кн. В. Мещерского "Мои воспоминания" (СПб. 1898) об этом факте не упоминается. 5 Уже в процессе печатания в "Историческом вестнике" из текста воспоминаний Вс. Соловьева было исключено изложение Этого разговора, касающегося проблем "реабилитации плоти" (см. также: "Вопросы литературы", 1964, No 4, стр. 202-203). Об отношении Достоевского к Белинскому см. т. 1 наст, изд., стр. 146-147. 6 С Иваном Николаевичем Шидловским Достоевский познакомился весною 1837 года в гостинице, где остановился в первый приезд вместе с братом, М. М. Достоевским, в Петербург. В первые годы пребывания в Инженерном училище (1838-1840) Достоевский находился под очень сильным влиянием Шидловского, который был старше на шесть лет, увлекался тогда всеми новейшими литературными течениями и сам писал стихи романтического содержания. Недолго прослужив чиновником (по окончании университета), Шидловский вскоре уехал на родину, в Харьковскую губернию, и там готовил большую работу по истории церкви. Любопытно, что герой "Хозяйки", быть может, психологический портрет Шидловского, тоже занимался историей церкви. В 50-х годах Шидловский недолго был послушником в монастыре. Как у натуры двойственной, искренняя вера и религиозность нередко сменялись у него скептицизмом и отрицанием. В минуты душевной тревоги предавался пьянству, уходил из дому и шатался по дорогам, около трактиров собирая народ и проповедуя "слово божие" (о Шидловском см.: М. П. Алексеев, Ранний друг Достоевского, Одесса, 1921). 7 Статья Вс. Соловьева "Ф. М. Достоевский", в которой он писал о влиянии Шидловского на молодого Достоевского, была напечатана в журнале "Нива", 1878, No 1. 8 См. об этом в письме Достоевского к брату, М. М. Достоевскому, от 26 апреля 1846 года, где он пишет, что "был болен, при смерти" "раздражением всей нервной системы". См. также следующие письма к брату (Письма, 1, 90, 92, 95, 96). 9 О том, что Достоевский не помнил сюжетов и действующих лиц своих романов, см. Письма, II, 47, 60. 10 Вторая жена, А. Г. Достоевская; дочь Любовь и сын Федор. 11 "Хорошо всем известный человек", "превратившийся в европейца" и "возненавидевший Россию", -- несомненно, И. С. Тургенев, с которым у Достоевского в Бадене произошла ссора. См. об этом подробно в письме к А. Н. Майкову от 28 августа 1867 года (Письма, II, 30-32). См. также стр. 20, 110-111 наст. тома, а также прим. к этим страницам. 12 Имеется в виду кружок кн. Мещерского, куда входили Ап. Майков, Н. Н. Страхов, Т. И. Филиппов, Вс. Крестовский, Н. С. Лесков, бывали М. Н. Катков, Н. Я. Данилевский, К. П. Победоносцев и др. Вс. Соловьев стал посещать литературные среды в доме кн. Мещерского. 13 О Достоевском -- редакторе "Гражданина" -- см. воспоминания В. В. Тимофеевой и М. А. Александрова. 14 Очевидно, имеется в виду крайне резкая статья П. Н. Ткачева в журнале "Дело", 1873, No 3 и 4. Оценивая фельетоны "Гражданина" и роман "Бесы", Ткачев несколько раз говорит о "психической аномалии" самого автора, о "не совсем нормальной фантазии г. Достоевского". 15 Повести в 2-х частях, М. 1863, куца входили: "После обеда в гостях", "Из провинциальной галереи портретов", "Старина", "Гайка", "Кирилла Петров и Настасья Дмитрова", "Давняя встреча". 16 См. воспоминания В. В. Тимофеевой, стр. 176. 17 Записка не сохранилась. Об аресте Достоевского см. стр. 92 и 178, а также прим. 39 к стр. 178. 18 Это воспоминание Достоевского о каторге через двадцать лет не совпадает с непосредственным впечатлением об Омском остроге, сохранившемся в письме к брату, М. М. Достоевскому, от 22 февраля 1854 года (см. Письма, I, 136-139). 19 См. прим. 38 к стр. 178. 20 Об отношении Достоевского к Л. Толстому см. стр. 252. 21 Вс. Соловьев, очевидно, в этот период уже работал над своей первой исторической повестью "Княжна Острожская", напечатанной в журнале "Нива", 1876, No 38-51. 22 Статья Вс. Соловьева о "Подростке" ("Наши журналы") была напечатана в "С.-Петербургских ведомостях", 1875, No 32 и 52, за подписью "Sine Irae". Кроме того, о конце романа Вс. Соловьев говорит в статье "Русские журналы", напечатанной в No 237 "Русского мира". 23 Письмо от 28 декабря 1875 года (Письма, III, 199-200). 24 Имеется в виду статья Достоевского "Старые люди" -- о Белинском и Герцене, которой открывался "Дневник писателя" в "Гражданине" в 1873 году. 25 Далее Вс. Соловьев приводит опускаемый нами отрывок из письма Достоевского к нему от 11 января 1876 года (Письма, III, 201-202). 26 "В благоприятном тоне" были написаны статья А. Скабичевского в "Биржевых ведомостях", 1876, No 36; статья П. Боборыкина в "С.-Петербургских ведомостях", 1876, No 4; статья в "Молве", 1876, No 16. В целом отзывы газет о "Дневнике писателя" за 1876 год были самые разные: от квалификации этого издания как бесполезного "сумбура" (НВ, No 37) до серьезного сочувствия. "Мы <...> сходимся в таких вещах, которые должны быть дороже для нас самой жизни, если только у нас есть <...> какие-нибудь честные и глубоко внедренные убеждения", -- так, например, писал Скабичевский о первых выпусках "Дневника" ("Биржевые ведомости", 1876, No 36, подпись "Заурядный читатель"). Однако мнение Скабичевского менялось в зависимости от содержания "Дневника" (ср. "Биржевые ведомости", No 70, 159, 187, 306). 27 О "восточном вопросе" Достоевский писал в "Дневнике писателя" за 1876 год, июнь, гл. II, и октябрь, гл. II (Достоевский, 1926-1930, XI, 316-330, 427-443). См. прим. 11 к стр. 388. 28 Далее следуют отрывки из письма Достоевского к Вс. Соловьеву от 16 июля 1876 года (Письма, III, 226-228). 2 9 См. прим. 7 к стр. 191.
УДК 1:2-426(470) «18119»
В.М. Давыдов B.C. СОЛОВЬЕВ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ
н.с. Дубовицкая ИДЕАЛЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Аннотация. Авторы статьи показывают, как понимал общественный идеал Ф.М. Достоевского великий русский философ B.C. Соловьев. Через анализ произведений Ф.М. Достоевского B.C. Соловьев дал определение общественного идеала писателя через понятие «вселенская Церковь».
Ключевые слова: общественный идеал, церковь, народ, правда.
Davydov Vyacheslav y.S. SOLOVYOV ABOUT THE SOCIAL IDEAL
Dubovytskaya Natalia OF F.M. DOSTOEVSKY
Annotation. The authors show the V.S. Solovyov"s comprehension of social ideal of F.M. Dos-toevsky. By analysis of F.M. Dostoevsky"s works V.S. Solovyov gave the definition of writer"s social ideal through the notion «universe Church». Keywords: social ideal, church, people, truth.
Думая о будущем России, мы как никогда осознаем, что нуждаемся в ясном понимании ее прошлого, и тех идей, которые разработали лучшие русские умы XIX в. Такими великими гениями России являются Ф.М. Достоевский и B.C. Соловьев, мечтающие о будущем своей Родины, о возможных перспективах ее развития, об общественном идеале. Этих двух мыслителей связывало очень многое, и как людей, и как личностей. Попробуем показать эти общие точки соприкосновения.
В. Соловьев, начиная с середины 1870-х гг., был теснейшим другом Ф.М. Достоевского. В 1873 г. был опубликован «Дневник писателя». Это произведение произвело очень сильное впечатление на В. Соловьева. Именно в этом году и произошло их знакомство. По воспоминаниям жены Ф.М. Достоевского А.Г. Достоевской, вначале В. Соловьев написал письмо писателю, и только потом пришел в гости, где произвел очаровывающее впечатление. Чем больше русский писатель разговаривал с В. Соловьевым, тем больше ему нравилась его образованность и ум. Лицо В. Соловьева напоминало ему одну из картин А. Каррачи «Голова молодого Христа». Многих поражала необычная внешность В. Соловьева. Это отразили в своем творчестве поэт А.Блок, художники Крамской и Яро-шенко, запечатлевшие философа в разные периоды его жизни: «все схватывали его страстную силу, какую-то отрешенность от мира, что-то монашеское, иконописное в лице, как будто он видел перед собой совершенно реально нечто невидимое другими людьми» .
Известно также, что Ф.М. Достоевский ездил в Соляной городок в 1877 г. и слушал сочинение В. Соловьева «Чтения о Богочеловечестве». В 1878 г. русский писатель посетил Оптину пустынь с В. Соловьевым, где встречался со старцем Амвросием. Именно в Оптиной пустыне получил творческий импульс один из самых выдающихся людей русской культуры. Окружающая природа, беседы со старцами, атмосфера любви и гостеприимства, царившие в этой обители, побудили Ф.М. Достоевского написать главное свое произведение «Братья Карамазовы». В этом романе неслучайно находят черты и Ивана, и Алеши во В. Соловьеве. .
Ф.М. Достоевский пережил тяжелые, трагические моменты в своей жизни, которые дали ему возможность «познакомиться» со смертью, увидеть ее воочию. В студенческие годы его отец был убит крестьянами, отомстившими тому за жестокость. Обучаясь в Петербурге, он вступает в кружок разночинной русской интеллигенции второй половины 40-х гг. XIX в. - петрашевцев. За участие в этом кружке молодого студента приговаривают к смертной казни, которая была заменена потом каторгой в Сибирь на четыре года. Ранняя потеря жены и брата, которого он очень любил и уважал. Смерть трехлетнего сына от эпилепсии. Постоянное, вечное безденежье. Эти пережитые тяжелые
© Давыдов В.М., Дубовицкая Н.С., 2015
драмы не могли не отразиться в его творчестве, «он себя вложил в свои произведения» . Известный российский философ и писатель В.К. Кантор назвал Ф.М. Достоевского «мыслителем, человеком, побывавшем в аду» . Русский поэт-метафизик Серебряного века В. Иванов писал о Ф.М. Достоевском следующее: «До него все в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу веру...» .
Все крупнейшие деятели русской культуры конца XIX - начала XX вв. испытали в той или иной мере влияние личности Ф.М. Достоевского и его идей: H.A. Бердяев, B.C. Соловьев, И.О. Лос-ский, С.Л. Франк, В.В. Розанов и др. После смерти великого русского писателя В. Соловьев объявил его духовным лидером России, фигурой, подобной Христу. Ф.М. Достоевский, по его мнению, был одним из немногих, которые сохранили в то время образ и подобие Божие. В. Соловьев стал одним из тех, кто видел свою задачу в том, чтобы рассказать о нем как об уникальном философе, сыгравшем большую роль в формировании его собственного философского сознания .
Беседы Ф.М. Достоевского и В. Соловьева оставили неизгладимый след в творчестве обоих деятелей русской мысли. В. Соловьев по справедливости высоко ценил значение и заслуги великого русского писателя, который глубоко проник в постижение сути бытия и общественного движения, видел не только вокруг себя, но и впереди себя, был способен разглядеть жизнь и в прошлом ее развитии и в будущем ее движении. При этом он имел свое собственное, самостоятельное понимание процессов, протекающих и в России, и в мире.
В истории русской мысли одной из самых значительных фигур являлся В. Соловьев. Он, как и Ф.М. Достоевский был убежден, что настоящее состояние человечества не таково, каким должно быть, значит, оно должно быть изменено, реформировано. Есть люди, которые хотели бы это преобразование осуществить путем насилия, убийства, кровью. Для обоих мыслителей это неправильный путь. По их мнению, изменение общества, общественных отношений должно происходить изнутри, из ума, сердца, души человеческой. По утверждению В. Соловьева, все человечество стремится своим развитием к нравственному совершенству, к одухотворенному бытию, к идеалу внутреннему, требующему трудной работы души. Точно так же считал и русский писатель Ф.М. Достоевский: по его мнению, человечество нравственно эволюционирует, восходя к нравственному идеалу. Он видит конечную цель движения в построении гармоничного общества, идеального во всех отношениях - и религиозно-нравственном и социально-экономическом, общества всеобщего благоденствия, т.е. по сути Царства Божия на земле. Эту же мысль подтверждают многие святые, например, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Феофан Затворник и преподобный Нектарий Оптинский, которые высказывали надежды на грядущее возрождение России.
В. Соловьеву очень близка была проблема общественного идеала, разработанная Ф.М. Достоевским. Общественный идеал русского писателя - это религиозный идеал, выстраданный им в течение всей его жизни в тяжелой борьбе. Ф.М. Достоевский пытался ответить в своих произведениях на два самых важных для него вопроса: 1) что такое высший идеал общества; 2) каким путем можно достигнуть, реализовать этот идеал. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, поставленные Ф.М. Достоевским, В. Соловьев провел анализ его произведений, пытаясь проследить этапы формирования понятия «общественный идеал».
В одном из первых своих произведений «Бедные люди» Ф.М. Достоевский пытается ответить на вопрос, почему при существующем строе лучшие люди в духовном отношении в то же время являются и худшими для общества: им суждено быть бедными людьми. Осудив эту социальную несправедливость, русский писатель приходит к выводу, что лучшие люди должны изменить общество, а именно: должны объединиться и восстать против этой несправедливости. Такой ответ на изменение общественных отношений и привел его к каторге.
В Сибири, за четыре года, проведенных на каторге, Ф.М. Достоевский понял ложность своих
взглядов, связанных с социальным переворотом, с революцией. Проанализировав судьбы каторжан, он открыл истины:
а) все арестанты были выходцами из простого народа;
б) это были худшие люди из народа;
в) эти худшие люди, однако, сохраняли веру в Бога и осознавали свою греховность.
На основании этих истин русский мыслитель сделал следующие выводы:
1) отдельные люди, даже самые лучшие, « не имеют права насиловать общество во имя своего личного превосходства»;
2) «общественная правда не выдумывается отдельными умами, а коренится во всенародном чувстве»;
3) эта «общественная правда имеет значение религиозное и необходимо связана с верой Христовой, с идеалом Христа» .
Вторым произведением, привлекшим внимание В. Соловьева, был роман «Преступление и наказание»: главный герой Родион Раскольников утверждает, что всякий сильный человек сам себе господин и ему все позволено. Во имя своего личного превосходства он полагает, что имеет полное право совершить убийство и совершает его. Только после всего содеянного он начинает осознавать, что натворил: он не только бросил вызов обществу, не только нарушил внешний закон, существующий в обществе, а совершил действие более глубокое - грех для своей собственной совести, нарушил закон внутренний, духовный, нравственный, закон своей души. При нарушении внешнего закона общество наказывает человека, отправляя его на каторгу. Нарушение же внутреннего закона, приведшее к убийству, можно искупить только духовным, нравственным подвигом самоотречения.
Следующая ступень формирования понятия «общественный идеал» у Ф.М. Достоевского, по мнению В. Соловьева, роман «Бесы», написанный перед процессом нечаевцев. «Целое общество людей, одержимых мечтой о насильственном перевороте, чтобы переделать мир по-своему, совершают зверские преступления и гибнут..., а их исцеленная верой Россия склоняется перед своим Спасителем» . По мнению В. Соловьева, это произведение оказало огромное влияние на жизнь общества, так как предсказало важные трагические общественные явления, с которыми столкнется Россия в будущем.
Ф.М. Достоевский осуждает людей, которые совершают преступления и взамен предлагает народный религиозный идеал, основанный на вере в Христа: «Одна лишь вера Христова, живущая в народе, содержит в себе тот положительный общественный идеал, в котором отдельная личность солидарна со всеми» . Человек, как считает Ф.М. Достоевский, должен отказаться от греха гордости и духовно воссоединиться с народом, т.е. вернуться к истинной вере, которая еще присутствует в народе. В этом общественном идеале братство имеет религиозно-нравственный, а не национальный характер. В. Соловьев пытается одним словом определить общественный идеал Ф.М. Достоевского: для него это - не народ, а Церковь, а, точнее, вселенская Церковь. Русский писатель выступает проповедником, пророком «вселенского христианства». Именно такое понимание общественного идеала роднит В. Соловьева с Ф.М. Достоевским.
Русский философ дает определение вселенской Церкви у Ф.М.Достоевского через классификацию христианства. В мире существуют два вида христианства: храмовое и домашнее. Храмовое христианство, с одной стороны, - это истинная вера, а, с другой, - внешняя Церковь, где Христос выступает как не прошедший факт, как не далекое и непостижимое чудо. Из Христа можно сотворить мертвый образ, поклоняться ему в церкви, но при этом он не будет присутствовать в реальной жизни. В этом случае христианство существует только в стенах храма, превращается в религиозный обряд.
Существует и другой вид христианства, который «хочет руководить деятельною жизнью человека, оно выходит из храма и поселяется в жилищах человеческих» . Это христианство
связано с внутренней, индивидуальной жизнью человека. Здесь Христос выступает как высший нравственный идеал, а религия - тесно связана с нравственностью человека. Этот вид христианства также представляет истинную веру, но эта вера - слаба и несовершенна, как и внешнее, храмовое христианство, так как она охватывает только личную жизнь человека. Такое христианство В. Соловьев называет домашним: оно изолирует весь мир общества, все общественные, гражданские, международные отношения.
Истинное христианство не должно быть ни внешним, храмовым, ни внутренним, домашним -оно должно быть вселенским, связанным со всем человечеством и его делами. На примере Христа В. Соловьев доказывает, что если тот является действительным воплощением истины, то он не должен быть ни личным идеалом, ни храмовым изображением. Христос - всемирно-историческое начало, живое основание всечеловеческой Церкви. Все общечеловеческие отношения должны управлять -ся нравственным идеалом, которому люди поклоняются в храме. Именно такое вселенское христианство проповедовал и признавал Ф.М. Достоевский, считает В. Соловьев.
В реальной жизни существуют и внешнее, храмовое и внутреннее, домашнее христианство. Но третьего вида христианства, высшего, пока в действительности нет, оно еще не родилось. Перед человечеством стоит непростая задача - создать его.
По-мнению Ф.М. Достоевского, в реальности такие сферы жизни человека, как политика, наука, искусство, экономика не объединяют, а разделяют людей, так как в них отсутствует христианское начало, они основаны на эгоизме, частной выгоде, соперничестве и порождают насилие, угнетение и рабство.
Ф.М. Достоевский всегда пропагандировал этот высший вид Церкви - вселенскую Церковь, так как она выступала для него не только как божественное учреждение, а решала важнейшую задачу мира - соединение всех людей во имя Христа путем любви, милосердия, самопожертвования. Кроме того, вселенская Церковь для русского писателя являлась единственно истинной потому, что только она может создать условия для уничтожения разделения человечества на враждебные народы, которые должны объединиться для всемирного возрождения. Высший идеал, по мнению Ф.М. Достоевского, лежит в Церкви, которая требует духовного, нравственного подвига и для личности, и для всего человечества.
Таким образом, для русского писателя и мыслителя, по словам В. Соловьева, только Церковь является положительным общественным идеалом. Такие люди, как Ф.М. Достоевский, утверждал В. Соловьев, «чувствуют и возвещают необходимость глубокого нравственного переворота и указы -вают условия нового духовного рождения России и человечества» .
Библиографический список
1. Иванов В. Достоевский и роман-трагедия // Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. - М., 1916.
2. Иванова A.A. Русская классическая философия. От Ф.М. Достоевского к И.А. Ильину / A.A. Иванова. -М.: Диалог-МГУ, 1999.
3. Кантор В.К. Ф.М.Достоевский, В. Соловьев, Августин // Ф.М. Достоевский и культура Серебряного века: традиции, трактовки, трансформации. - М.: Водолей, 2013.
4. Новиков А.И. История русской философии X - XX веков / А.И. Новиков. - СПб.: изд-во «Лань», 1998.
5. Соловьев B.C. Три речи в память Достоевского // Соч. в 2 т. Т. 2. - М: Мысль, 1988.
6. Соловьев С.М.. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция / С.М. Соловьев. - М.: Республика, 1997.
7. Шишкина В.И., Пурынычева Г.М. История русской философии XIX - нач. XX вв / В.И. Шишкина, Г.М. Пурынычева. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 1997.
Философ, поэт, критик. Родился в семье историка С.М. Соловьева. В 1869 г. Со-ловьев окончил с золотой медалью Пятую мос-ковскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского уни-верситета, а затем перешел на физико-математический факультет, где числился до апреля 1873 г., когда подал прошение об увольнении из числа студентов (курса он не кончил) и одновре-менно сдал блестяще экзамены на степень кан-дидата по историко-филологическому факульте-ту, что допускалось правилами. Осенью того же года он поселился в Сергиевом посаде, где стал посещать лекции в Московской духовной ака-демии. В ноябре 1874 г. Соловьев защитил в Пе-тербургском университете магистерскую диссер-тацию «Кризис западной философии (Против по-зитивистов)», затем был доцентом по кафедре философии Московского университета, а в 1877 г. переехал в Петербург, где принял должность чле-на ученого комитета при Министерстве народно-го просвещения. В 1880 г. Соловьев защитил в Петербургском университете докторскую диссер-тацию «Критика отвлеченных начал».
Обращение Соловьева к христианской рели-гии, которая, как он верит, призвана преобра-зовать мир, неизбежно должно было привести его к Достоевскому. Знакомство Соловьева с До-стоевским состоялось в начале 1873 г., после то-го как Соловьев написал Достоевскому письмо 24 января 1873 г.: «Милостивый государь Федор Михайлович! Вследствие суеверного поклонения антихристианским началам цивилизации, гос-подствующего в нашей бессмысленной литера-туре, в ней не может быть места для свободного суждения об этих началах. Между тем такое суждение, хотя бы и слабое само по себе, было бы полезно, как всякий протест против лжи.
Из программы "Гражданина", а также из не-многих ваших слов в № 1 и 4 я заключаю, что направление этого журнала должно быть совер-шенно другим, чем в остальной журналистике, хотя оно еще и недостаточно высказано в облас-ти общих вопросов. Поэтому я считаю возмож-ным доставить вам мой краткий анализ отрица-тельных начал западного развития: внешней свободы, исключительной личности и рассудоч-ного знания — либерализма, индивидуализма и рационализма. Впрочем, я приписываю этому маленькому опыту только одно несомненное до-стоинство, именно то, что в нем господствующая ложь прямо названа ложью, и пустота — пусто-тою. С истинным уважением имею честь быть вашим покорнейшим слугою Вл. Соловьев. Моск-ва. 24 января 1873».
Жена писателя А.Г. Достоевская вспомина-ет: «В эту зиму нас стал навещать Вла-димир Сергеевич Соловьев, тогда еще очень юный, только что окончивший свое образование. Сна-чала он написал письмо Федору Михайловичу, а затем, по приглашению его, пришел к нам. Впечатление он производил тогда очаровываю-щее, и чем чаще виделся и беседовал с ним Фе-дор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность. Один раз мой муж высказал Вл. Соловьеву причину, почему он так к нему привязан.
— Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека, — сказал ему Федор Михайлович, — некоего Шидловского, имевшего на меня в юно-сти громадное влияние. Вы до того похожи на него и лицом и характером, что подчас мне ка-жется, что душа его переселилась в вас.
— А он давно умер? — спросил Соловьев.
— Нет, всего года четыре тому назад.
— Так как же вы думаете, я до его смерти двадцать лет ходил без души? — спросил Влади-мир Сергеевич и страшно расхохотался. Вообще он был иногда очень весел и заразительно сме-ялся. Но иногда, благодаря его рассеянности, с ним случались курьезные вещи: зная, напри-мер, что Федору Михайловичу более пятидесяти лет, Соловьев считал, что и мне, жене его, долж-но быть около того же. И вот однажды, когда мы разговаривали о романе Писемского "Люди со-роковых годов", Соловьев, обращаясь к нам обо-им, промолвил:
— Да, вам, как людям сороковых годов, мо-жет казаться... и т. д.
При его словах Федор Михайлович засмеял-ся и поддразнил меня:
— Слышишь, Аня, Владимир Сергеевич и те-бя причисляет к людям сороковых годов!
— И нисколько не ошибается, — ответила я, — ведь я действитеьно принадлежу к сороко-вым годам, так как родилась в тысяча восемьсот сорок шестом году.
Соловьев был очень сконфужен своею ошиб-кою; он, кажется, тут только в первый раз по-смотрел на меня и сообразил разницу лет между моим мужем и мною. Про лицо Вл. Соловьева Федор Михайлович говорил, что оно напомина-ет ему одну из любимых им картин Аннибала Карраччи "Голова молодого Христа"» (Воспоми-нания Достоевской. 277-278).
Подруга А.Г. Достоевской М.Н. Стоюнина свидетельствует: «Потом, когда был убит импе-ратор и Вл. Соловьев, говоря о необходимости помиловать, не казнить убийцу, чтоб выйти из малого "кровавого круга", пока не образовался "большой кровавый круг", сказал эти слова, то Анна Григорьевна страшно вознегодовала. По-мню, она подбежала тоже к кафедре и кричала, требуя казни. На мои слова к ней, что ведь Вла-димира Сергеевича наверное бы одобрил и До-стоевский, что ведь он его так любил и изобра-зил в лице Алеши, Анна Григорьевна с раздра-жением воскликнула: "И не так уж любил, и не в лице Алеши, а вот уже скорее в лице Ивана он изображен!" Но эти слова, повторяю, сказала она в волнении раздражения».
Действительно, эти слова А.Г. Достоевская «сказала <...> в волнении раздражения» и, как убе-дительно показывают Р.А. Гальцева и И.Б. Род-нянская, был, конечно, бли-же к Соловьеву, в частности, к Соловьеву Достоевский мог бы отнести слова, какими он рекомендует чита-телям Алешу Карамазова: «...это человек стран-ный, даже чудак <...>. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли? Вот если вы не согласитесь с этим последним тези-сом и ответите: "Не так" или "не всегда так", то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего Алексея Федоровича. Ибо не только чудак "не всегда" частность и обособление, а, напротив, бывает так, что он-то, пожалуй и но-сит в себе иной раз сердцевину целого».
«Начиная с 1873 г. вплоть до кончины писате-ля, — пишут Р.А. Гальцева и И.Б. Роднян-ская, — Соловьев присутствует в жизненном мире Достоевского как репрезентативная фигу-ра <...>. Сфера человеческих отношений, объеди-няющая Достоевского и Соловьева, — это столько же литературно-общественные салоны с их бла-готворительными вечерами и необязательным интересом к высшим предметам, сколько целе-устремленный мир идейной молодежи, часть ко-торой в эти годы увидела реальное жертвенное дело в помощи славянам, страдающим под ту-рецким владычеством...».
Достоевский, несомненно, оценил натуру Со-ловьева, его бескорыстие, беззаветную предан-ность высоким христианским идеалам, однако излишняя отвлеченность его религиозного уче-ния вызвала у бывшего каторжанина дружескую шутку. Очевидец одной из встреч Соловьева и Достоевского в 1878 г., литератор Д.И. Стахеев вспоминает: «Владимир Сергеевич что-то рас-сказывал, Федор Михайлович слушал, не возра-жая, но потом придвинул свое кресло к креслу, на котором сидел Соловьев, и, положив ему на плечо руку, сказал:
— Ах, Владимир Сергеевич! Какой ты, смот-рю я, хороший человек...
— Благодарю вас, Федор Михайлович, за по-хвалу...
— Погоди благодарить, погоди, — возразил Достоевский, — я еще не все сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо бы тебя года на три в каторжную работу...
— Господи! За что же?..
— А вот за то, что ты еще недостаточно хо-рош: тогда-то, после каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин...».
Уже в первый год знакомства Соловьев вошел в постоянное окружение Достоевского, что вид-но из письма Соловьева к Достоевскому от 23 де-кабря 1873 г.: «Милостивый Государь многоува-жаемый Федор Михайлович, собирался сегодня заехать проститься с Вами, но, к величайшему моему сожалению, одно неприятное и непредви-денное обстоятельство заняло все утро, так что никак не мог заехать. Вчера, когда Н.Н. Стра-хов нашел Вашу записку на столе, я догадался, что это вас я встретил на лестнице, но по близо-рукости и в полумраке не узнал. Надеюсь еще увидеться; впрочем осенью буду в Петербурге. С глубочайшим уважением и преданностью оста-юсь Ваш покорный слуга Вл. Соловьев. Передай-те мое почтение Анне Григорьевне».
Уже подружившись с Соловьевым, Достоев-ский пишет из Старой Руссы 13 июня 1880 г. вдо-ве А.К. Толстого графине С.А. Толстой: «А Вла-димира Сергеевича пламенно целую. Достал три его фотографии в Москве: в юношестве, в моло-дости и последнюю в старости; какой он был кра-савчик в юности».
Чаще всего Достоевский и Соловьев встреча-лись с конца 1877 г. по осень 1878 г., когда Досто-евский регулярно посещал «чтения о Богочеловечестве», — лекции, которые Соловьев с огромным успехом читал в Соляном городке в Петербурге. А.Г. Достоевская вспоминает о том, как после смерти их сына , Соловьев вместе с Достоевским в июне 1878 г. ездили в Оптину пустынь: «Чтобы хоть несколько успо-коить Федора Михайловича и отвлечь его от гру-стных дум, я упросила. Вл. С. Соловьева, посе-щавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было дав-нишнею мечтою Федора Михаиловича, но так трудно было это осуществить. Владимир Серге-евич согласился мне помочь и стал уговаривать Федора Михайловича отправиться в Пустынь вместе. Я подкрепила своими просьбами, и тут же было решено, что Федор Михайлович в поло-вине июня приедет в Москву (он еще ранее намерен был туда ехать, чтобы предложить Катко-ву свой будущий роман) и воспользуется случа-ем, чтобы съездить с Вл.С. Соловьевым в Оптину пустынь. Одного Федора Михайловича я не решилась бы отпустить в такой отдаленный, а главное, в те времена столь утомительный путь. Соловьев, хотя и был, по моему мнению, "не от мира сего", но сумел бы уберечь Федора Михай-ловича, если б с ним случился приступ эпилеп-сии».
История этой поездки может быть дополнена ответом Соловьева от 12 июня 1878 г. на не до-шедшее до нас письмо к нему Достоевского, оза-боченного устройством поездки: «Многоуважа-емый Федор Михайлович, Сердечно благодарю за память. Я наверно буду в Москве около 20 ию-ня, т.е. если не в самой Москве, то в окрестно-стях, откуда меня легко будет выписать в случае Вашего приезда, о чем и распоряжусь. Относи-тельно поездки в Оптину пустынь, наверно не мо-гу сказать, но постараюсь устроиться. Я жив порядком, только мало сплю и потому стал раздра-жителен. До скорого свидания. Передайте мое почтение Анне Григорьевне. Душевно предан-ный Вл. Соловьев».
Во время совместной поездки в Оптину пус-тынь Достоевский изложил Соловьеву «главную мысль», а отчасти и план целой серии задуман-ных романов, из которых были написаны толь-ко «Братья Карамазовы». 6 апреля 1880 г. Достоевский присутствовал на защите Соловье-вым докторской диссертации «Критика отвле-ченных начал». Достоевский приветствовал диссертацию молодого философа, причем особенно привлекала Достоевского близ-кая ему по своей сути мысль, высказанная Со-ловьевым, о том, что «человечество <...> знает гораздо более, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве» (письмо До-стоевского к Е.Ф. Юнге от 11 апреля 1880 г.).
Духовное общение с Соловьевым отразилось в круге нравственных тем и образов «Братьев Карамазовых».
В вместе с письмами Соловьева к А.Г. До-стоевской сохранилась ее записка под заглави-ем: «К письмам ко мне Вл.Соловьева»: «Влади-мир Сергеевич Соловьев принадлежал к числу пламенных поклонников ума, сердца и таланта моего незабвенного мужа и искренно сожалел о его кончине. Узнав, что в память Федора Михай-ловича предполагается устройство народной школы, Владимир Сергеевич выразил желание содействовать успеху устраиваемых для этой цели литературных вечеров. Так, он участвовал в литературном чтении 1 февраля 1882 года; за-тем в следующем году, 19-го февраля, произнес на нашем вечере в пользу школы (в зале Город-ского кредитного общества) речь, запрещенную министром, и, несмотря на запрещение, им про-читанную, и имел у слушателей колоссальный успех. Предполагал Владимир Сергеевич уча-ствовать в нашем чтении и в 1884 году, но семей-ные обстоятельства помешали ему исполнить свое намерение. По поводу устройства этих чте-ний мне пришлось много раз видаться и перепи-сываться с Владимиром Сергеевичем, и я с глу-бокою благодарностью вспоминаю его постоян-ную готовность послужить памяти моего мужа, всегда так любившего Соловьева и столь много ожидавшего от его деятельности, в чем мой муж и не ошибся. А<нна> Д<остоевская>».
После смерти Достоевского Соловьев высту-пил с речью на Высших женских курсах 30 ян-варя 1881 г., на могиле Достоевского (напечат. в кн.: Соловьев Вл.С. Философия искусства и ли-тературная критика. М., 1991. С. 223-227) и с тремя речами, в которых впервые подчеркнул высокие христианские идеалы писателя: «Итак — церковь, как положительный обще-ственный идеал, как основа и цель всех наших мыслей и дел, и всенародный подвиг, как пря-мой путь для осуществления этого идеала — вот последнее слово, до которого дошел Достоев-ский, которое озарило всю его деятельность про-роческим светом» (Соловьев Вл.С. Три речи в память Достоевского. М., 1884. С. 10). В РГБ со-хранилась заметка Соловьева «Несколько слов по поводу "жестокости"», в которой Соловьев резко возражал , назвав-шего свою статью о Достоевском «Жестокий та-лант» (напечат. в кн.: Соловьев Вл.С. Филосо-фия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 265-270.).
Резким диссонансом поэтому звучит письмо Соловьева к философу , которое тот приводит к своей переписке с В.В. Розано-вым: «Достоевский горячо верил в существова-ние религии и нередко рассматривал ее в подзор-ную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел». Это письмо Соло-вьева диаметрально противоположно по смыслу более ранним его «Трем речам в память Досто-евского» и его же «Заметке в защиту Достоев-ского от обвинения в "новом" христианстве» (Русь. 1883. № 9) по поводу труда К.Н. Леон-тьева «Наши новые христиане...», в которых Со-ловьев, наоборот, утверждал, что Достоевский всегда стоял на «действительно религиозной по-чве». Р.А. Гальцева и И.Б. Роднянская совер-шенно справедливо пишут о том, что «по-види-мому, сведения, исходящие от Леонтьева, требу-ют осторожного отношения ввиду того, что из-за присущей ему странной захваченности в любом принципиальном споре он часто переакцентиру-ет и перекраивает сообщаемые факты и мнения <...>. Подобные казусы заставляют предполо-жить, что Леонтьев столь же произволен, когда он сообщает высокомерный отзыв Соловьева о религиозности Достоевского, будто бы содержа-щийся в одном из писем Соловьева, которое Ле-онтьев цитирует явно по памяти и без указания даты». Очевид-но, под влиянием последнего, В.В. Розанов на-писал в 1902 г. статью «Размолвка между Дос-тоевским и Соловьевым» (Наше наследие. 1991. № 6), хотя никакой размолвки между ними ни-когда не было.
Переходит в христианский универсализм, где для узко-националистического взгляда нет места. Объективная необходимость этого перехода подтверждается тем, что, в занимающую нас эпоху, он совершается не у одного только Соловьева. В 1880 году тождество русского с универсальным провозглашается Достоевским ; последний в своей знаменитой пушкинской речи категорически заявляет, что «все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя и исторически необходимое».
До сих пор было принято думать, что учение Соловьева сложилось под влиянием Достоевского. Едва ли, однако, вопрос о влиянии Достоевского на Соловьева допускает столь простое и одностороннее решение. Не подлежит сомнению, что между обоими писателями с конца 1870-х годов была большая близость. Из свидетельства Соловьева мы знаем, что в 1878 году оба они вместе ездили в Оптину Пустынь, причем Достоевский излагал своему другу «главную мысль, а отчасти и план целой серии задуманных им романов, из которых в действительности был написан только первый – «Братья Карамазовы » . Мысль, положенная Достоевским в основу этой серии – «Церковь, как положительный общественный идеал» – в то время была руководящим началом и для Соловьева. До какой степени в ту пору оба жили одной духовной жизнью, видно из того, что, говоря об основах своего миросозерцания, Достоевский в 1878 году высказывается от общего их имени. В письме к Н. П. Петерсону, по поводу прочтенной только что вместе с Соловьевым рукописи Н. Ф. Федорова, он пишет: – «Предупреждаю, что мы здесь, т. е. я и Соловьев, по крайней мере, верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно будет на земле» .
Фёдор Достоевский. Портрет работы В. Перова, 1872
Без сомнения, в то время оба писателя вместе продумывали и развивали общее миросозерцание. При этих условиях влияние их друг на друга, понятное дело, должно было быть взаимным. Есть основания думать, что оно было определяющим не только для Соловьева, но и для Достоевского. В частности, по-видимому, универсальное понимание задачи России перешло от первого к последнему, а не наоборот.
В пушкинской своей речи Достоевский, как известно, говорил, что особенность русского гения заключается в его всемирной отзывчивости, что, соответственно с этим, – русскому народу не свойственно желание «укрепляться от всех в своей национальности, чтобы ей только одной все досталось». «Мы не враждебно (как, казалось, должно было бы случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гениев чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода . Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, сталь вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите». Культурная задача России, соответственно с этим, формулируется Достоевским так. –
«Стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»
В 1880 году, когда эта речь была произнесена, Достоевский прекрасно знал, что мысль его – не нова: он прямо признал, что раньше его она была «высказана не раз». Но, спрашивается, кем же? Достоевский, очевидно, не мог здесь иметь в виду самого себя, собственных своих более ранних произведений. В ту пору, когда автор «Бесов » и «Идиота » думал, что Христос неизвестен Западу и что мир должен быть спасен «одной только русской мыслью, русским Богом и Христом», – он был, очевидно, далек от заключенья, что спор славянофильства и западничества есть простое историческое недоразумение. Раньше Достоевский относился безусловно отрицательно к западной культуре . Теперь, в пушкинской речи он говорит о необходимости признать её ценности и вместить ее во всечеловеческой русской душе. Мы имеем здесь несомненно перелом в воззрениях Достоевского, который для него самого связывается с «не новой» и, следовательно, кем-то раньше высказанной мыслью.
Раньше, в 1877 г.она была высказана Соловьевым. Нетрудно убедиться, что формулировка её, данная последним в «Трех силах », точнее и шире. У Соловьева его «третья сила» осуществляет единство всего человеческого рода, как целого, без всяких ограничений. Между тем, мысль Достоевского задерживается какими-то психологическими препятствиями, которые мешают ему принять универсализм Соловьева во всем его объеме. Он говорит о готовности русского народа к «всеобщему, общечеловеческому воссоединению со всеми великими племенами арийского рода» (курсив мой), не замечая того глубокого внутреннего противоречия, которое заключается в этом исключении из всечеловечества племен неарийских. Идея «всечеловечества» противоречит в корне антисемитизму Достоевского: очевидно, она у него – не изначальная и не своя; остается допустить, что она была им усвоена благодаря постороннему влиянию. Что влияние в данном случае исходило именно от Соловьева, – доказывается не одним сопоставлением речей того и другого писателя, но также и тем, что в период, отделяющий обе эти речи (с 1877 по 1880 г.), общение между ними было всего теснее. Раз в ту пору они сообща переживали и передумывали самые заветные свои думы – в той самой Оптиной Пустыни, которая вдохновила наиболее яркие страницы «Братьев Карамазовых», – предположение, что Соловьев не ввел Достоевского в круг мыслей, выраженный в «Трех Силах»,представляется совершенно невероятным.
Впрочем, не так важно выяснить влияние одного писателя на другого, как установить факт их согласия в общем и основном. Он свидетельствует о том, что учение Соловьева о миссии России не есть только случайное, личное увлечение, а целое течение религиозной мысли, исторически необходимое, тесно связанное с общим ходом истории.

Владимир Соловьев
Сам Соловьев, переживавший подъем освободительной эпохи и возбуждающее влияние великой освободительной войны, ясно сознавал связь между идеями и всемирно историческими событиями. От войны 1877 года он ждал «пробуждения положительного сознания русского народа» .
У него самого это пробуждение выразилось в виде веры в Россию, как спасительницу народов. Оно отразилось в том расширенном понимании русского национального мессианства , которое от Соловьева перешло к Достоевскому. В связь с этим должна быть поставлена другая, чрезвычайно важная черта сходства между обоими писателями.
В «Братьях Карамазовых» Достоевский высказывает тот самый «положительный общественный идеал», о котором впоследствии говорит Соловьев в первой своей речи о Достоевском . Тут Достоевский ставит вопрос, который, как известно, является основным для Соловьева и дает то самое решение, которое в ту пору давалось и последним.
Общественный идеал «Братьев Карамазовых» сводится к тому, что Христос должен стать всем в человеческой жизни. А это значит, что во Христе должно преобразиться и все человеческое общество. Но владычество Христа на земле есть не что иное, как царство церкви. Церковь «есть воистину царство и определена царствовать, и в конце своем должна явиться, как царство на всей земле несомненно, – на что мы имеем обетование...» Этим, по Достоевскому, определяется и нормальное отношение церкви к государству. В Западной Европе ей отводится в государстве «как бы некоторый лишь угол, да и то под надзором, – и это повсеместно в наше время в современных европейских землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди». В настоящее время христианское общество еще не готово к этому переходу; но оно должно к нему готовиться, ждать «полного преображения из общества почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь».
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Е. Соловьев
Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность
Биографический очерк
с портретом Достоевского, гравированным в Лейпциге Геданом
Глава I
Достоевский и беллетристы 40-х годов. – Особенности. – Литературный пролетарий. – Вечное безденежье и вечная кабала. – Влияние города. – Городские темы и городские лица. – Психопатология и психопатия
Имя Федора Михайловича Достоевского упоминается обыкновенно наряду с именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станет отрицать за ним права быть поставленным в первых рядах «стаи славной» беллетристов сороковых годов. Но если и возможно сближать Достоевского с его сверстниками с точки зрения места, времени, силы, таланта и общности «литературного происхождения» (от Гоголя), то подобное сближение очень трудно и потребует самых замысловатых натяжек, раз мы перейдем к духу, смыслу и форме произведений. Всем этим Достоевский уже обязан преимущественно себе и странным обстоятельствам своей личной жизни. Это – его неотъемлемая собственность, в которой ярко выразилась его резко очерченная индивидуальность, его болезненный психопатический гений, оригинальность его мышления и фантазии, не имеющая ничего подобного и равного в русской литературе. Положительно трудно не согласиться со словами H. H. Страхова из его письма к Достоевскому: «очевидно, по содержанию, по обилию и разнообразию идей вы у нас первый человек, и сам Толстой, сравнительно с вами, однообразен. Этому не противоречит то, что на всем вашем лежит особенный и резкий колорит». В чем же эта всеми замеченная, но никем вполне ясно не сформулированная особенность всей жизни и всей деятельности Достоевского? Кое-какие параллели дадут нам ответ на этот вопрос.
В произведениях Гончарова и в особенности Тургенева вам прежде всего бросается в глаза удивительная отделка формы. Все вызолочено, вылощено, отлакировано, отполировано; каждое слово на своем месте, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, в которой было бы заметно утомление или неровность таланта. Каждое произведение так и просится в переплет с золотым обрезом. Каждая фигура, каждая даже мимолетно появляющаяся на сцену личность (у Тургенева) точно из мрамора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки раз обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потом уже давалось публике на прочтение с полной уверенностью в успехе, без всякой торопливости, без всяких заискиваний. Хорошо так работать, и счастлив тот художник, который может так работать. Но для этого нужны прежде всего средства и выдержка (внутренняя дисциплина). Ни того, ни другого у Достоевского не было. Во всю свою жизнь только две вещи он написал не наспех и не к сроку. Это «Бедные люди», первый его роман, и «Братья Карамазовы» – последний. Все остальное писалось столько же из потребности, сколько и из-за заработка, когда, бывало, и есть нечего, и сам Достоевский по уши в долгах сидит в Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключениями, у Достоевского нет ничего выдержанного, обработанного. Иногда целая сотня страниц производит впечатление какой-то papier mache1
папье-маше (фр.) –
измельченная волокнистая бумажная масса
И только вдруг, в конце, гений, преодолев усталость, проявляется во всю мощь, точно молния прорезывает тучи и освещает всю картину фантастическим, дивным блеском. Обыкновенно же это тысячи ненужных подробностей, десятки отдельных интриг, нагромождения новых героев и героинь. Все это наспех, наскоро, с натугами и порывами, кризисами творчества, молниеносными проблесками гения и удручающим вымучиванием. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевский не умел и зачастую запродавал вместо романа белый лист бумаги, причем «мошенники» издатели огораживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевского; ведь это один и тот же мотив: «денег, денег, денег!», и мало-мальски чувствующий и мыслящий человек поймет, какая трагедия разыгрывалась в душе великого писателя, которому к такому-то сроку непременно надо приготовить такое-то количество листов. Раз попав в лапы господ Краевских и Стелловских, Достоевский только под конец жизни вырвался из них. Какой же силы должен был быть талант, успевший проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и резкие признаки если не помрачения, то, во всяком случае, психопатизма, по нашему – истеричности?…
Тургенев, Толстой, Гончаров писали и пишут, потому что у них была потребность писать, такая же неодолимая, «органическая», как у других есть, пить, спать. Литература и для них главное дело жизни, но не будь у них таланта, они преспокойно прожили бы и без нее. Пишу, потому что пишется, потому что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевского литературная деятельность была столько же потребностью, сколько и необходимостью. Он сам себя не раз называл литературным пролетарием и называл совершенно справедливо, хотя успех и удача приобретались им сравнительно легко. Как ни велик был его гений, спешка портила дело, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя то со злобой, то с отчаянием повторять: «Эх, кабы хоть один роман написать так, как пишут Тургеневы да Толстые»… А сколько унижений, сколько невидимых самолюбивых мук, сколько зависти и ревности к другим, более счастливым, которым от рождения дано то, чего ему, Достоевскому, удалось достичь лишь трудом целой жизни, т. е. материального обеспечения! Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы – сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказов, писать, несмотря на припадки, и пр.! Жизнь Достоевского – это полная трагизма борьба гения с рынком…
Но вместе с этим Достоевский до страсти любил литературу и вне ее не искал ни заработков, ни занятий. Он с гордостью называл себя литератором, хотя и нищим литератором, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую-нибудь казенную должность или что-нибудь в этом роде. Только по временам срывались у него невольные проклятия, когда нужда слишком уж начинала давить, но и тут он твердо оставался на посту. Вот любопытный отрывок из одного письма, достаточно характеризующий эту душевную трагедию литературного пролетария. Дело в том, что Кашпирев (редактор «Зари»), не выслал ему к сроку 75 рублей. Достоевский разражается следующими строками: «Неужели он думает, что я писал ему о своей нужде только для красоты слога! Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она (жена) кормит ребенка, что ж, если она последнюю свою шерстяную юбку идет сама закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне стыдно объяснять ему все это! Да неужели уже он не понимает, что он не только меня, но и жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно, после того, как я писал ему о нуждах жены. Оскорбил, оскорбил!.. – Он скажет, может быть: „а черт с ним и с его нуждой! Он должен просить, а не требовать“ и т. д. И такую вещь приходится писать автору „Бедных людей“, „Записок из Мертвого дома“, „Преступления и наказания“!.. Фразы же вроде: „я до того заработался, что отупел, и голова как забитая“ – повторяются постоянно.
И все же Достоевский не только не оставлял, но даже и не думал оставить своей литературной лямки.
Оставим, однако, борьбу с рынком в стороне и перейдем к другой стороне вопроса. «Ловкий француз или немец, – писал H. H. Страхов к Достоевскому, – имей он десятую долю вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной литературы. И весь секрет, мне кажется, в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен».
Этот совершенно верно указанный недостаток (так как сущность литературного таланта в том и состоит, чтобы с наименьшими затратами выражения, в широком смысле слова, произвести наибольшее впечатление на читателей) происходит отчасти от спешки в работе, отчасти и от других причин. Дело в том, что талант Достоевского – талант совсем особенный, исключительный. Владеть им он так и не научился до конца жизни. Это талант неровный, вспыльчивый, раздражительный, до последней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновение, иначе у него и двух строк не выходило. Свои темы он брал сразу, приступом, одним размахом рисовал самые сложные свои типы (например, Иван Карамазов, Раскольников, Свидригайлов), а не подбирался к ним исподтишка, понемногу. Великий мастер психологического анализа, Достоевский совсем не был мастером в детальной живописи. Он не мог так возиться, так разглядывать, так разрезать по частям своих героев, как Толстой; не умел так вырисовывать их, как Тургенев; но он, как никто, умел жить с ними, страдать с ними, мучиться и волноваться. Созерцательности в нем не было ни на йоту, оттого-то творчество так истощало его. В то время как Гончаров смотрит на жизнь удивительно умным, понимающим и в то же время удивительно сытым взглядом, Достоевский – весь нервы, весь напряжение, весь мука и томление. Когда Толстой стоит перед вами, вперив свой испытующий гениальный взгляд в самую глубину души человеческой, творя суд над правым и неправым с медлительностью все испытавшего и все постигшего гения, Достоевский или проклинает, или благословляет, с любовью или с ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность, неровность таланта, это вечное клокотание в груди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.
По-видимому, виноват в этом личный, по наследству полученный Достоевским характер, его, как сейчас увидим, истеричность, а потом и еще одно обстоятельство, особенно хорошо и метко указанное А. М. Скабичевским в его «Истории новейшей русской литературы». «В то время как большинство беллетристов 40-х годов, будучи выходцами из деревень, принадлежали к рыхлому помещичьему типу, Достоевский является представителем разночинного, служилого класса общества, холерическим нервным сыном города; а во-вторых, в то время, как большинство их были люди обеспеченные, Достоевский один среди них принадлежал к вновь возникшему классу интеллигентного пролетариата». Этому сыну города, интеллигентному пролетарию, всегда раздраженному, всегда расстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу с жизнью и рынком, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своих героев. Его беспокоит жизнь, ее материальная сторона, ее нравственные проблемы. Он как бы сторонится красоты, изящества, наслаждения. Он терпеть не может никаких художественных аксессуаров. Жизнь – это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Где тут целоваться да миловаться или описывать поцелуи да милованья. Жизнь – задача, долг, обязанность, борьба наконец, после которой руки и ноги будут в крови. Поэтому в произведениях Достоевского вы не найдете ни очаровательных описаний природы, ни захватывающих сцен любви, свиданий, поцелуев, ни обворожительных женских типов. Все это Достоевский отрицал в принципе. В «Бесах», в лице писателя Кармазинова, он потешался над Тургеневым, за его «страсть изображать, например, поцелуи не так, как они происходят у всего человечества, а чтобы кругом рос дрок или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться в ботанике, причем и на нем должен быть непременно какой-нибудь фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не видал, а дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета». Этот пуризм очевидно происходил от слишком серьезного, слишком вдумчивого отношения к жизни, которая представлялась Достоевскому как религиозная проблема прежде всего. Равно как каждого его героя жизнь прежде всего мучает, так она мучила и его самого. Где тут описывать поцелуи интересных пар!.. Это-то уж, несомненно, взгляд на жизнь тяжкодума, городского пролетария.
Сын города виден также и в выборе сюжетов. Баре Тургенев, Толстой, Гончаров бар прежде всего и рисовали и как дополнение к ним – мужика. Третьего сословия, горожан, мещан, разночинцев они почти не затрагивали, иногда разве преимущественно ради «опровержения». Изящного общества Достоевский не знал и не выводил на сцену в своих произведениях. Мир чиновничества, интеллигенции, городского пролетариата – вот его сфера. «Он любит вводить читателя в городские вертепы, трущобы, где царят нищета и разврат. Он даже, как Диккенс, проникнут их мрачной поэзией. Не вдаваясь в описание красот природы, он очень часто разворачивает перед читателем иного рода ужасающие картины, от которых мурашки ползут по спине. Это в особенности Петербургу свойственная картина городских улиц ночью, в осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда все, у кого есть теплый кров, прислушиваются к завываниям бури в своих тепленьких уголках, и лишь бесприютные, обиженные, сбившиеся со всякого пути, полуодетые в жалкие рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемые мокрым снегом, пронизываемые ветром и погруженные в какие-нибудь полубезумные грезы».
К довершению всего, т. е. своей особенности, Достоевский был несомненным психопатом, не помешанным, говорю я, а психопатом, что не то же самое. В детстве он страдал галлюцинациями, потом падучей. Но и, кроме этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знает всякий: это мучительное недоверие к себе, своим силам, жизни, это подозрительность в отношении ко всякому, опять-таки начиная с себя, это боязнь, испуганность перед жизнью вообще. Что же такое «истеричность», с которой нам придется встретиться не раз на протяжении биографии, об этом лучше всего скажет нам сам Достоевский – величайший из психопатологов. Отсылая за подробностями к «Братьям Карамазовым», я беру характеристику истерической натуры в изложении доктора Чижа: это «неустойчивое равновесие психических отправлений, чрезмерно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакция психического механизма и быстрая смена его возбуждений. В характере такого рода больных бросается в глаза пестрая смесь построений и аффектов, симпатий и антипатий, представлений то веселых, то грозных, то серьезных, то низменных, то с философским пошибом; стремлений полных энергии, но скоро пропадающих… У этих же больных есть и другая замечательная черта – самолюбие! Они самые наивные эгоисты, говорят только о себе и постоянно, с самым живым интересом, стараются обратить на себя общее внимание, возбудить участие, заинтересовать всех своею личностью, своею болезнью, даже пороками». В этом портрете трудно не узнать Федора Михайловича Достоевского, его неуравновешенную, неровную натуру, полное отсутствие внутренней дисциплины, капризность, быструю, беспричинную смену восторгов и отчаяния, симпатий и антипатий, крайнего увлечения и холодного равнодушия. Страшно за человека, которому приходится жизнь прожить с таким характером, а к тому же, если этот человек талантлив, беден, наивен, как ребенок… Но все это выяснится нам после.
Пока же два слова о миросозерцании. Совершенно естественно, что особенности личной жизни, исключительный, болезненный темперамент придали ему очень резкую индивидуальную окраску. Но было бы, кажется, совершенно напрасной работой представить это миросозерцание в целом: нет просто никакой возможности разобраться в противоречивых подробностях, во взаимно исключающих парадоксах. На мысль Достоевского личное – Даже минутное настроение – оказывало могущественное влияние, и сегодняшнее белое могло очень легко завтра показаться черным. Если в «Записках из Мертвого дома» он утверждает, что характерная черта русского народа – стремление к справедливости,
то это нисколько не мешает ему говорить в «Дневнике»: «наш народ любит страдание». Если однажды Белинский представляется ему «благородным», то через какое-то время благородный человек оказывается поганым явлением русской жизни и т. д. Ни в жизни своей, ни в мысли Достоевский не знал дисциплины и противоречил себе не только в подробностях, но и в основном. Попробуйте изложить его взгляды на страдание: то он является перед нами чистым гуманистом, то признает необходимость страдания как наказания за грех, то просто преклоняется перед ним как перед таковым. Неправда жизни, опять-таки, то губит людей, то воспитывает в них внутреннюю силу. Многие же изречения Достоевского прямо зависят от минутной злобы, внезапно нахлынувшего раздражения, от личных симпатий и антипатий. Несомненно, что, вращайся он в другом обществе, он зачастую бы говорил другое и не делал бы таких ужасных скачков от христианского смирения к самому забубенному шовинизму или чему-нибудь в этом роде. Повторяю, мечта о том, чтобы представить миросозерцание Достоевского во всей его целости и стройности совершенно неосуществима. Недисциплинированная мысль великого художника сама подчас не знает, куда она идет, и требует, например, каторги для сумасшедшего! (Раскольников).2
см. гл. V
Но все же общие идеи этого миросозерцания ухватить можно. В последней главе нашей книги мы говорим о Достоевском как о народнике, теперь же попытаемся охарактеризовать это господствующее ныне настроение.
Понятно, что Достоевский, как страстный и нетерпеливый характер, зачастую чувствовал какую-то истеричную и вместе с тем непримиримую злобу и к жизни, и к людям. В эти мрачные минуты его душевные раны открывались; дикой и мучительной, полной ненужной, но неукротимой жестокости, представлялась ему жизнь. Со страстным любопытством художника погружался он тогда в человеческую душу и находил в ней столько грязи и мерзости, что требовались костры ада, чтобы очистить ее. Под влиянием такого настроения человеческий характер представлялся ему исполненным злобы и мучительных инстинктов. Он говорил: «человек – деспот от природы и любит быть мучителем». Он посягал на саму любовь, он и ей придавал характер инквизиционной пытки: «я до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». В столь же мрачном свете представлялась ему и дружба. «Странная вещь эта дружба! – восклицает он… – Положительно могу сказать, что я на девять десятых стал дружен с ним из-за злобы!» Подобные взгляды Достоевского обобщены под эпитетом жестокости таланта. Жестокость ли это таланта или результат вынесенной муки – не знаю, но прямо становлюсь на сторону последнего мнения. В отрицании любви и дружбы, в этом представлении жизни как ненужно жестокой, в этом инквизиторски-мучительском выискивании зла в своей собственной душе, в этом взгляде на деятельность человека прежде всего как на покаяние – я вижу отражение тяжелой многострадальной жизни, выпавшей на долю великого писателя. Постоянно доходил он до отчаяния; обстановка, характер так давили и терзали его, что он ощущал в душе холодный ужас и неподавимый страх перед жизнью. Нежный и любящий, он становился способным различать вокруг себя одну злобу; страстно привязанный к жизни, он нетерпеливо отталкивал ее от себя и уходил в «подполье», чтобы оттуда проклинать бытие. Холодный ужас и холодное отчаяние то и дело овладевали им. Он хотел жить как человек радостный, сильный, здоровый, с любовью в сердце, но такая жизнь не давалась ему, и он оттолкнул от себя наслаждение, он проклял счастье.
И кроме того, по самому существу своей натуры, личного опыта, темперамента, Достоевский отрицал всякий эпикуреизм в жизни и даже с ненавистью изгонял его оттуда. Точка зрения эпикурейцев, поиск наслаждения, мысль, что наслаждение – господствующий мотив в деятельности человека, были просто противны ему. В юности он увлекается аскетическими идеалами, потом казнит интеллигенцию за то, что та стремится к личному счастью или старается устроить чужую жизнь по идеалу всеобщего земного счастья. Он решительно отказывается признать наслаждение за главный господствующий мотив деятельности и, увлекаясь полемикой с этим принципом, уже из духа противоречия утверждает, что человек ищет страдания, любит его, что оно нужно ему так же, как и наслаждение. В трезвые же минуты он видит в людях просто способность к самопожертвованию, самую высокую и ценную с его точки зрения, способность отрекаться от своего «я» во имя абсолютного нравственного начала.
Отрицая эпикуреизм, вместе с ним Бентама, Милля, утилитаристов вообще, Достоевский в своих взглядах на личность твердо держится догмы христианского учения. Личность для него свободна, т. е. одарена свободной волей. Как таковая, она ответственна. Мало того, у ней есть сознание этой свободы, что и проявляется в раскаянии, в желании пострадать после совершенного греха. Даже не личный свой грех, а грех вообще личность способна принять на себя и радоваться страданию как началу, освобождающему от него. Личность свободна, а следовательно – ответственна. Это камень краеугольный всего миросозерцания Достоевского. В этом – и только, кажется, в этом он никогда себе не противоречил. Отсюда все выводы его учения. Даже рисуя психопатов и сумасшедших, Достоевский все-таки не поступался своим излюбленным принципом и к ним относился так же строго, как и к обыкновенным людям, требовал их ответственности и наказания, и только в «Дневнике» однажды переменил гнев на милость (дело Корниловой).
Содержание, ценность этой свободной личности не зависят от внешних, материальных условий, среди которых она находится. С точки зрения свободы воли это логично. Достоевский любил повторять: «не о едином хлебе бывает жив человек», и всякая экономическая или материалистическая точка зрения на жизнь, утверждающая, что человек есть точная копия внешних условий, положительно претила ему. Какие, кажется, внешние условия в жизни русского народа, особенно крепостного мужика, однако и в нем сохранилась внутренняя правда, которая и светит из-под серого армяка и насевшей грязи. Не о едином хлебе жив бывает человек, и суть жизни совсем не в экономических или политических условиях, а в началах нравственных, религиозных. Большинство интеллигенции утеряло их. Но их не утеряла Россия, русский народ, сохранивший внутреннюю правду и православно-христианские идеалы. Поэтому нам, а не Европе, принадлежит будущее. Основанием нравственного начала жизни является любовь и смирение. Без любви нет деятельности, без смирения деятельность есть служение своему «я», эгоистическое искание личного счастья, чего Достоевский не допускал. Смиренно служить другому – таков идеал нашего писателя, но он не только не давал, но и прямо отрицал право вмешиваться в чужую жизнь, право заботиться о чужом счастье и устраивать его по собственной программе.
Личность, т. е. каждый в отдельности, прежде всего должна проникнуться мыслью, что в сущности она очень слаба и очень ничтожна, и что главные усилия ее должны направляться на свое собственное самоусовершенствование. Человек, сам человек, прежде всего должен быть хорош, а потом – видно будет. «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек», – учил Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи. Других оставь в покое и не думай, что ты можешь сделать что-нибудь с жизнью, тем более с народной жизнью.
Подводя итоги сказанному, мы видим, что Достоевский, отрицая совершенно эпикуреизм, материализм, социализм и пр., видел в жизни прежде всего проблему нравственную и религиозную. В разрешении ее, т. е. в поисках веры в Бога и личном самоусовершенствовании и заключается задача человека здесь на земле. Самый взгляд на жизнь у Достоевского отличается строгостью и своего рода мрачностью. Жизнь – задача громадная; житейская борьба суровая, и нечего плакать, если после нее и руки, и ноги в крови будут. Не для радости живет человек, а для осуществления нравственного идеала, в жертву которому он должен принести свое личное «я». Не любовь, не розы, не наслаждение, а работа, страдание, борьба – вот принципы Достоевского. Как в своих произведениях он никогда не описывает ни идиллических картин, ни поцелуев интересных пар, как там он постоянно указывает на зло, сидящее внутри человека, на присущую каждому карамазовщину, так и в его миросозерцании в общем господствует мрачный взгляд на жизнь. Жизнь – это жертва, самоотречение, долг, неисчерпаемая греховность. Истинная жизнь – это борьба с внутренним, нравственным злом, которое пребывает в каждом из нас. Страдание, во всяком случае, полезнее для этой борьбы, чем наслаждение, и стремясь к последнему, мы совершенно забываем о высшей задаче и роли, предназначенной человеку на земле.
Как видит читатель, миросозерцание это чисто религиозное. Думая постоянно о высшем начале, руководящем жизнью, Достоевский совершенно логично подчинял ему человека и человеческое счастье. Мало того, как натура глубоко религиозная он и вообще-то был прежде всего склонен к подчинению, к тому, чтобы обратить всю деятельность человека внутрь, на самого себя, а не на борьбу с внешними обстоятельствами. Тут не консерватизм, не реакционность, не индифферентность даже, так как у Достоевского не было ни того, ни другого, ни третьего, а какая-то потребность подчиниться чему и кому-нибудь, потребность, вообще присущая религиозным натурам. Человек не все, тем более – отдельный человек. Есть нечто высшее, и вот в проповеди этого высшего начала, в постоянном искании его и прошла вся жизнь, вся деятельность Достоевского. Надо склониться пред чем-нибудь, чтобы не остаться под руководством своего личного «я»: оно ведет к гибели, к озверению. Победа над этим «я» и есть дело истинно человеческое.
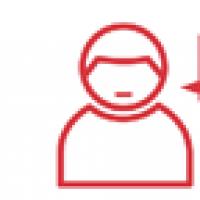 Защита прав потребителей в области предоставления страховых услуг Нарушение прав потребителей по страхованию
Защита прав потребителей в области предоставления страховых услуг Нарушение прав потребителей по страхованию Как сделать так чтобы человек уволился с работы заговор
Как сделать так чтобы человек уволился с работы заговор Когда необходима перевязка маточных труб, и каких последствий ждать после операции?
Когда необходима перевязка маточных труб, и каких последствий ждать после операции? ВДВ Великобритании во Второй мировой
ВДВ Великобритании во Второй мировой Филипп II Македонский - биография
Филипп II Македонский - биография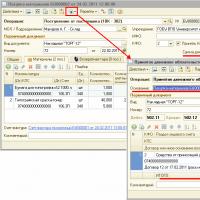 Денежное обязательство при получении счета на предоплату услуг
Денежное обязательство при получении счета на предоплату услуг Крещение руси князем владимиром как феномен древнерусской истории
Крещение руси князем владимиром как феномен древнерусской истории